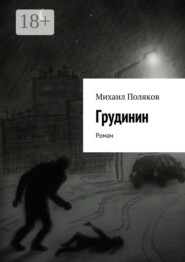По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Небо над нами
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Небо над нами
Михаил Борисович Поляков
Небольшой храм, расположенный на территории провинциальной зоны строгого режима, становится ареной психологической борьбы между молодым священником и заключенным, сидящим за жестокое убийство. У каждого из них свой опыт, своя вера и свои сомнения. И каждый по-своему отвечает на вопрос о том, кто мы, люди: звери ли, обреченные рвать друг друга, стремясь к лучшей судьбе, или же действиями нашими руководят иные, высшие силы? Этот конфликт завершается трагедией, навсегда меняющей судьбы обоих людей.
Небо над нами
Михаил Борисович Поляков
© Михаил Борисович Поляков, 2020
ISBN 978-5-0050-7780-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
I
Возвращаясь дождливым и слякотным апрельским вечером с похорон коллеги, я купил билет на поезд, отправлявшийся из Ярославля в Москву. Час назад, стоя на отпевании в душной, напитанной терпким запахом ладана церкви, я припоминал те немногие мгновения жизни, что связывали меня с покойным. Кажется, случались какие-то общие журналистские дела лет двадцать назад, две или три совместные командировки, да несколько взаимных приглашений на семейные праздники. Но всё это было так давно, и так мало следов оставило по себе, что я, как ни старался, не смог воскресить в памяти ничего определённого. Со службы ушёл с неприятным ощущением раздражения на собственное равнодушие и с тем муторным, похожим на неудавшийся зевок, сознанием однообразувае жности бытия, которое всегда рождают давно забытые рутинные события, вдруг пронёсшиеся перед внутренним зрением.
Ещё предстояла пятичасовая тряска в вагоне, хриплые вопли музыкантов, табачная вонь из тамбура… Обрадовало лишь то, что в воскресной электричке оказалось свободно – лишь кое-где на лавочках дремали усталые дачники в обнимку со своими баулами, да двое молодых ребят в тамбуре лениво пинали по полу пивную банку, и пронзительный шорох от этой суеты с какой-то нелепой органичностью вплетался в мерный стук колёс. Напротив меня устроился бородатый мужичок в зелёном плюшевом пальтишке, и, развернув газету, принялся читать. Я заметил, что он то и дело отрывается от своего занятия и пристально приглядывается ко мне, видимо, собираясь, но не решаясь о чём-то спросить. Я извлёк из портфеля рыжий томик Фолкнера, исполняя данное себе обещание закончить, наконец, «Шум и ярость». Но книга не пошла – мрачные события, излагаемые автором, накладывались на впечатления от недавних похорон, и неприятно усиливали их. Убрав книгу, я потянулся за смартфоном, надеясь отвлечься интернетом, но индикатор батареи отразил удручающие десять процентов заряда. Я собрался было поднять воротник пальто и подремать, но мой попутчик, поспешно сложив газету, протянул мне.
– Если хотите, возьмите у меня «Известия» сегодняшние.
– Нет, спасибо, – с улыбкой отказался я.
– Ну а поговорить – не хотите? – навстречу улыбнулся он. – Вы, вероятно, с похорон едете? – утвердил, не дав мне ответить.
– Как вы догадались? – несколько смутился я.
– Очень просто. Одеты вы в костюм, то есть, так сказать, к официальному случаю. А что официального может быть в воскресенье в церкви? Крестины, свадьба да похороны. Первые два пункта исключаем – мрачны вы чересчур. Вот и остаются похороны. Что, не угадал?
– Да, но как вы поняли, что я именно из церкви?
– А по запаху, – улыбнулся мой попутчик. – Ладаном пахнете, и я даже сказать могу, в каком храме были. В Архангельском, на Щорса, верно? У отца Андрея секрет есть – он сам варит, с анисовым семенем. Знаете, в церкви поставляют сплошь ладан «Архиерейский» – это такая известная софринская марка. А он – тяжёл, голова болит как надышишься. Вот батюшки и разбавляют кто чем горазд – один анисом, другой – дубовым мхом толчёным, третий – восточными травами. Я когда служил, специально катался в Новый Иерусалим за дымком – там иногда бывают благовония, сваренные по древнерусским рецептам.
– Так вы – священник?
– Да, священник. Точнее – был, – поспешно оговорился он. – Сейчас вот еду в отдел… Не знаю…
– Уволили?
– Это не так называется, – мягко улыбнулся он. – Говорят: запретить в служении. Но у меня другое. Я – сам…
– Почему? – поинтересовался я.
– А вы про пожар слышали на зоне в Кратовске?
– Что-то слышал, – произнёс я, действительно припоминая.
– Ну вот, после этого и решил уйти… Я на той зоне служил, и случилась одна история, – он запнулся. – В общем, посчитал, что не вправе…
– Ясно, – кратко ответил я, решив, что он не хочет распространяться.
– Ну а вы по какому поводу едете? – спросил он.
Я начал рассказывать о похоронах, но мой попутчик слушал невнимательно, вероятно, напряжённо размышляя. Он то вскидывал беспокойный взгляд на меня, то посматривал за окно, где под стук колёс стремительно мелькали бледно-зелёные апрельские пейзажи. По тому, как нервно сжимались его тонкие губы и хмурился лоб, я видел, что ему хочется мне что-то сказать.
– Знаете, я в той истории и сам не разобрался, – вдруг невпопад прервал он меня.
– В какой истории?
– Да с той, что на зоне, с пожаром. А хотите – расскажу?
– Не откажусь, – согласился я.
– А вам ехать далеко? – беспокойно спохватился он.
– До Москвы.
– Ну что ж, если до Москвы, то, пожалуй… Но – не надоем? Просто если рассказывать, то с самого начала. А это – долго.
Я снова успокоил, подтвердив, что выслушаю с удовольствием. И он начал.
– Знаете, священником мне словно назначено было стать с детства. Родился я в начале восьмидесятых, как раз тогда, когда была популярна эта песня про мальчика, у которого «сестрёнок и братишек нет», помните? Тогда действительно началась мода на свободу, вошло в ход выражение «пожить для себя», и родители в полном соответствии с духом времени, отдали меня на воспитание двоюродной бездетной бабке, жившей в Ярославле. Там я и окончил детский сад, и пошёл в школу. Софья Матвеевна, оказалась набожной старушкой – водила меня в церковь, брала в паломнические поездки по святым местам. Сейчас я понимаю, что она относилась к тем верующим, которых мы, священники, называем православными ведьмами. Вам наверняка встречался этот тип: чихнёшь или оступишься в храме, войдёшь, не сняв шапку, и тут же шипение со всех сторон – как, мол, дерзнул осквернить святое место? Помню, однажды я выбросил сухую просфорку, полученную на заутренней в Лавре, и схлопотал от бабки звонкую пощёчину, от которой два дня пекло щёку. Но за исключением этих, довольно, впрочем, редких эпизодов, моё детство было прекрасно. Представьте себе – каждую неделю мы ехали в какое-нибудь новое место – в скит, в монастырь или в далёкую церковь, где у бабки был знакомый священник. Сегодня все стремятся за границу, а жаль – стоило бы сначала на Россию посмотреть. И в первую очередь, конечно, наши храмы, в которых вся душа страны. Взять хоть Успенский собор во Владимире – знаете, у меня дух захватило, когда я маленьким впервые увидел то, какой величественный вид у него открывается. До сих пор помню себя пятилетним, стоящим над распростёртой перед ним бескрайней равниной. Я смотрел на тёмные, почти чёрные тени облаков, плывущие куда-то вдаль по ярко-зелёному морю, на пронзительно-синее небо, в котором терялся взгляд, и плакал – и не от горя, а от счастья, от ощущения какой-то невероятной свободы. Казалось, стоит шагнуть вперёд – и сам в птицу обратишься и взмоешь ввысь. А гром колоколов, а ослепительный блеск куполов… А ещё Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде, нарядный и яркий как зимний праздник, а величественный, могучий великан Иосифо-Волоцкий, укрытый среди лесов как жемчужина в своей раковине на дне океана… И сколько у нас этих сокровищ, прозябающих в забытьи – в Суздале, во Владимире, в Твери!
Так чудесно было приехать поздно вечером в небольшой скит или монастырскую гостиничку, от усталости заснуть без задних ног, а утром, поднявшись на заре, выйти по холодку к колодцу, или ручью, текущему в соседнем леске, а то и к тихому водопадику, к которому за святой водицей ходят из окрестных деревень. И долго, жадно пить студёную воду, стуча зубами о край жестяного ковшика. В такие моменты узнаёшь о России что-то настоящее…
В десять лет родители забрали меня от бабки, и в четвёртый класс я пошёл уже в Москве. Затем, года через два, старушка моя умерла. На похороны её родители не поехали – отцу перепала командировка за границу, в Венгрию, куда можно было захватить семью. И – не упускать же такую возможность! Помнится, притащили оттуда целую гору одежды – каких-то джинсов, курток, свитеров. Сидели вечером и, не переодевшись с самолёта, самозабвенно разбирали сладкие эти плоды, ухваченные из заграничного потребительского рая. Мерили, назначали – что ушить и что отдать на перекрой, хлопотали, встречая соседей, явившихся за заказами. Ясно помню, как средь озабоченного этого кудахтанья, мать вдруг замерла, застигнутая воспоминанием. И, оглушённая, прошептала, повернувшись к отцу: «А тетю-то Соню похоронили, пока мы ездили!» Спохватились, переглянулись угрюмо, с немым друг другу укором. А в следующую секунду – вновь погрузились в шмотки… – он улыбнулся с грустной иронией. – Знаете – а они ещё живы, милые мои мещанчики, и ни о чём в жизни, представьте, не жалеют… Вообще, что бы ни проповедовали святые отцы, но в вещизме, в животном материализме есть нечто привлекательное, какая-то дьявольская, скотская свобода, почти стоящая и потери души и вечных мук, которыми за неё расплачиваются.
– Серьёзная мысль, – улыбнулся я.
– Ещё какая – всю жизнь мне перепахала, – мрачно отозвался он.
Несколько мгновений мы молчали.
– Да ну так вот, – вдруг продолжил он, как бы спохватившись – Когда мне исполнилось двенадцать, родители расстались. Развод был тяжёлый – делёж имущества, ссоры, скандалы. По решению суда меня отдали матери, которая довольно быстро нашла замену отцу. Потом был новый дружок, за ним – третий… Отец нас не навещал, и я оказался предоставлен самому себе. Пока мать бегала по вечеринкам да налаживала личную жизнь, я или сидел в своей комнате, или одиноко шлялся по двору. Развод родителей сильно повлиял на меня, я замкнулся в себе, стал неразговорчив. В школе из-за этого меня задирали, и я частенько возвращался домой с синяком или ссадиной. Забитый, одинокий, беззащитный, я жил в постоянном страхе. Но в самые тяжёлые моменты спасали воспоминания о бабке. От хмурой повседневности я удирал в мир детства – к монастырям, храмам, добрым батюшкам и серьёзным монахам в пыльных рясах… Класса с восьмого начал и читать кое-что религиозное. От старушки моей осталось немало книг – Иоанн Кронштадтский, Павел Флоренский, Леонтьев. Сначала, конечно, понимал не всё, но чем больше увлекался, тем подробнее изучал и вникал. Мало-помалу передо мной распахнулась целая вселенная, огромный мир, в котором царили доброта, гуманизм и спокойствие – всё то, чего мне не хватало в действительности… К окончанию школы я уже выбрал дорогу в жизни, и, получив аттестат, подал документы в Донскую семинарию.
После рукоположения меня направили в небольшой храм в посёлке Александровка, что в полусотне километров от Ярославля. Первые восемь лет прослужил там дьяконом, а затем получил собственный приходик в другом селе – Валентиновке. К тому моменту у меня уже была семья – жена и маленький сын.
Казалось бы, жизнь вошла в накатанную колею. Но тут-то и начались проблемы. В первую очередь – материальные. Существует легенда, что священники получают какие-то немыслимые деньги, но на деле наше жалованье зависит от обеспеченности паствы. В Александровке приход был богатый – в посёлке располагался большой кирпичный завод. Работали магазины, имелась своя поликлиника, регулярно ходил транспорт. В Валентиновке же едва дышал на ладан нищий колхозик. Кое-кто из местных батрачил в нём за гроши, кто-то устраивался в соседнее Димитрово на овощебазу. Остальные же кто во что горазд: огороды копали, ремонтом мелким промышляли. Главное же – пили. И хорошо бы хоть водку хлестали, но на неё денег не хватало, и тащили в рот всё, что горело – денатурат, самогон, боярышник… Травились, конечно, нещадно, ей-Богу, война меньше народу выкосила. Понятно, что и служба там была совсем скудненькая. Крестины редко, на похоронах почти ничего не заработаешь, да и народ оказался не набожный, стороной храм обходил. Прогрессисты наши из телевизора часто повторяют, что бедные – главные прихожане церкви. Но бедность бедностью, а нищета – совсем другое дело. Сидя на шести тысячах рублей в месяц, да с супругом-алкоголиком, да с оборванными детками уж не о вере думаешь, а о том, чтобы облик человеческий не потерять. Мы с женой под стать пастве едва сводили концы с концами – если бы кур своих не развели да огородик кой-какой не вскопали, то, наверное, впрок бы и по миру идти. Что-то выгадать на одежонку себе и сынишке разве что под Пасху получалось. Жена терпела-терпела, да, наконец, устала – забрала ребёнка и уехала к родителям в Саратов.
Одному мне зажилось тяжко. То хандришь, то отчаиваешься, то тоскуешь по прошлому, а главное – в вере сомневаться начинаешь. Бывало, только задумаешься о Боге, и тут же мысль: за что Он меня оставил? За что отнял семью, обрёк на нищету, лишил будущего? Да и есть ли Он, всемогущий и любящий, вообще? Я упивался обидой, наслаждался ей, каждый раз замечая с каким-то едким сладострастием, что чем она сильнее, тем меньше становится во мне вера. Особенно мутило от того, что, одной рукой отталкивая религию, другой я вынужден был держаться за неё, потому что от неё зависели мои быт, хлеб, крыша над головой. Выполнять же обряды и прочие обязанности, не веря совсем, было бы не то что невозможно, но как-то морально изнурительно. А я уже был так истощён, что не мог принять этого нового бремени.
И как мучительна была эта полувера! Постоянно грязное, муторное ощущение, которого не передать простыми словами. Одновременно и отчаяние, и тоска, и озлобленность ехидная. Как же вам объяснить… Вот, к примеру, читаю под Пасху в газете разоблачения о схождении благодатного огня: ну то, что обычно пишут – будто монахи поджигают, или реакция там какая химическая… Прежде-то, при твёрдой вере, обрывал просто. «Это чудо», – скажу себе, и всё – нет сомнений. Теперь же не только не противлюсь, но читаю, бывало, с увлечением. «И в самом деле – монахи мутят», – думаю со злостью. И тут же как кипятком ошпарит поочерёдно возмущением, ненавистью, обидой. Главное – обидой: отдал жизнь, а чему? Обида эта вместе с жалостью к себе выливалась в какое-то горькое, жаркое наслаждение, в котором я, представьте, часами млел, как в масле варился. Так приучился к нему, что уж и градации появились – лучше всего, если до слёз прошибало, тогда понимаешь, что освободился – будто спазм прошёл. Если нет, то ещё бы посидеть, пожалеть себя да горести посмаковать, накрутиться, одним словом, чтоб потекло из глаз…
И сидишь так час, два, три. Но вот уже время службы и слышны шаги и голоса прихожан на дворе. Говоришь себе: «Ладно, ладно, всё». Делаешь усилие, заслоняясь от сомнений щитом безмыслия, и, ополоснув лицо холодной водой, идёшь служить. Но прежде щит, укреплённый религией, был прочен, теперь же обтёрся о сомнения, истончился, и неверие проникает сквозь него. Стоишь на службе и нет-нет да мелькнёт озорная, как чёртик, мыслишка – дескать, они, прихожане, верят, а я, с важным и серьёзным выражением поучающий их, – нет. И удовольствие злорадное от неё, и сразу же – стыд за это удовольствие. Так тебя два часа из холода в жар и бросает… Из-за этой непрестанной умственной сутолоки я стал грязен, небрежен, груб. Служил без усердия, лишь бы кое-как отделаться. Доходило уже до того, что читаю, бывало, Вечерню на всенощном бдении и думаю – может, закончить на «Сподоби господи», и сразу же, без Литии, «Ныне отпущаеши», тропаря и остального, перейти к освещению хлебов? В такие моменты я буквально ненавидел тех из своих ревностных (а значит – подлинно воцерковлённых) прихожан за то, что те хорошо знали службу и заметили бы ошибку. В такой вот грязи нравственной минули у меня два долгих года.
В январе 2016-го позвонил отец Нестор, благочинный нашего района, и рассказал о том, что протоиерей Николай Маслов, служивший в соседнем селе Кратове, заболел и собирается покинуть служение. На должность его быстро нашли замену, но на одно послушание не оказалось желающих. Рядом с селом находилась колония, на территории которой недавно возвели небольшой храм. И в нём отец Николай по воскресеньям проводил службы. Благочинный, соблазняя любопытством новой обстановки, интересовался – не захочу ли я взять это на себя? Я согласился, но не столько из интереса, сколько желая заработать – тюремное начальство положило священнику пятнадцать тысяч в месяц.
Уже через неделю жизнь моя развернулась на сто восемьдесят градусов. Несмотря на то, что новая обязанность оказалась утомительна – добираться до места приходилось два с половиной часа по плохой дороге, она полностью поглотила меня. Всё дело было в прихожанах. Дома, в Валентиновке, моя паства состояла из десятка чёрных старушек, являвшихся в церковь по привычке, да из нескольких болящих, что надеялись через целование икон и мощей избавиться от страданий. Эти люди воспринимали лишь условную, обрядовую часть религии. Поход в храм для них был сродни еженедельной стирке или посещению врача, само же учение Христа играло роль второстепенную, никак не вовлекаясь в повседневную жизнь. На зоне же всё оказалось иначе. Там были и молодые люди, впервые в заключении посетившие церковь, и старики, к концу пути задумавшиеся о Боге, и люди среднего возраста, матёрые уголовники, ищущие выхода из порочного круга, в который их загнала жизнь. Если в Валентиновке я служил перед десятком истово крестящихся и яростно кланяющихся старушек, бездумно повторявших каждое моё слово, то на зоне из тесной полутьмы храма на меня глянули полсотни любопытных пар глаз, жаждущих, как чудилось тогда, чего-то нового, неких откровений, способных изменить их судьбы. Заключённым я, кажется, понравился. Привлекло и то, что я отказался от охраны, постоянного присутствия которой требовал прежний священник, и то, что после службы общался с каждым желающим. Ко мне подходили за советом и сочувствием, исповедовались, просили дать наставление. Каждого я старался утешить, рассказывал подходящую к случаю историю из Библии или священного предания. И всё это – с энергией, с вдохновением, которых давно не чувствовал у себя.
Михаил Борисович Поляков
Небольшой храм, расположенный на территории провинциальной зоны строгого режима, становится ареной психологической борьбы между молодым священником и заключенным, сидящим за жестокое убийство. У каждого из них свой опыт, своя вера и свои сомнения. И каждый по-своему отвечает на вопрос о том, кто мы, люди: звери ли, обреченные рвать друг друга, стремясь к лучшей судьбе, или же действиями нашими руководят иные, высшие силы? Этот конфликт завершается трагедией, навсегда меняющей судьбы обоих людей.
Небо над нами
Михаил Борисович Поляков
© Михаил Борисович Поляков, 2020
ISBN 978-5-0050-7780-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
I
Возвращаясь дождливым и слякотным апрельским вечером с похорон коллеги, я купил билет на поезд, отправлявшийся из Ярославля в Москву. Час назад, стоя на отпевании в душной, напитанной терпким запахом ладана церкви, я припоминал те немногие мгновения жизни, что связывали меня с покойным. Кажется, случались какие-то общие журналистские дела лет двадцать назад, две или три совместные командировки, да несколько взаимных приглашений на семейные праздники. Но всё это было так давно, и так мало следов оставило по себе, что я, как ни старался, не смог воскресить в памяти ничего определённого. Со службы ушёл с неприятным ощущением раздражения на собственное равнодушие и с тем муторным, похожим на неудавшийся зевок, сознанием однообразувае жности бытия, которое всегда рождают давно забытые рутинные события, вдруг пронёсшиеся перед внутренним зрением.
Ещё предстояла пятичасовая тряска в вагоне, хриплые вопли музыкантов, табачная вонь из тамбура… Обрадовало лишь то, что в воскресной электричке оказалось свободно – лишь кое-где на лавочках дремали усталые дачники в обнимку со своими баулами, да двое молодых ребят в тамбуре лениво пинали по полу пивную банку, и пронзительный шорох от этой суеты с какой-то нелепой органичностью вплетался в мерный стук колёс. Напротив меня устроился бородатый мужичок в зелёном плюшевом пальтишке, и, развернув газету, принялся читать. Я заметил, что он то и дело отрывается от своего занятия и пристально приглядывается ко мне, видимо, собираясь, но не решаясь о чём-то спросить. Я извлёк из портфеля рыжий томик Фолкнера, исполняя данное себе обещание закончить, наконец, «Шум и ярость». Но книга не пошла – мрачные события, излагаемые автором, накладывались на впечатления от недавних похорон, и неприятно усиливали их. Убрав книгу, я потянулся за смартфоном, надеясь отвлечься интернетом, но индикатор батареи отразил удручающие десять процентов заряда. Я собрался было поднять воротник пальто и подремать, но мой попутчик, поспешно сложив газету, протянул мне.
– Если хотите, возьмите у меня «Известия» сегодняшние.
– Нет, спасибо, – с улыбкой отказался я.
– Ну а поговорить – не хотите? – навстречу улыбнулся он. – Вы, вероятно, с похорон едете? – утвердил, не дав мне ответить.
– Как вы догадались? – несколько смутился я.
– Очень просто. Одеты вы в костюм, то есть, так сказать, к официальному случаю. А что официального может быть в воскресенье в церкви? Крестины, свадьба да похороны. Первые два пункта исключаем – мрачны вы чересчур. Вот и остаются похороны. Что, не угадал?
– Да, но как вы поняли, что я именно из церкви?
– А по запаху, – улыбнулся мой попутчик. – Ладаном пахнете, и я даже сказать могу, в каком храме были. В Архангельском, на Щорса, верно? У отца Андрея секрет есть – он сам варит, с анисовым семенем. Знаете, в церкви поставляют сплошь ладан «Архиерейский» – это такая известная софринская марка. А он – тяжёл, голова болит как надышишься. Вот батюшки и разбавляют кто чем горазд – один анисом, другой – дубовым мхом толчёным, третий – восточными травами. Я когда служил, специально катался в Новый Иерусалим за дымком – там иногда бывают благовония, сваренные по древнерусским рецептам.
– Так вы – священник?
– Да, священник. Точнее – был, – поспешно оговорился он. – Сейчас вот еду в отдел… Не знаю…
– Уволили?
– Это не так называется, – мягко улыбнулся он. – Говорят: запретить в служении. Но у меня другое. Я – сам…
– Почему? – поинтересовался я.
– А вы про пожар слышали на зоне в Кратовске?
– Что-то слышал, – произнёс я, действительно припоминая.
– Ну вот, после этого и решил уйти… Я на той зоне служил, и случилась одна история, – он запнулся. – В общем, посчитал, что не вправе…
– Ясно, – кратко ответил я, решив, что он не хочет распространяться.
– Ну а вы по какому поводу едете? – спросил он.
Я начал рассказывать о похоронах, но мой попутчик слушал невнимательно, вероятно, напряжённо размышляя. Он то вскидывал беспокойный взгляд на меня, то посматривал за окно, где под стук колёс стремительно мелькали бледно-зелёные апрельские пейзажи. По тому, как нервно сжимались его тонкие губы и хмурился лоб, я видел, что ему хочется мне что-то сказать.
– Знаете, я в той истории и сам не разобрался, – вдруг невпопад прервал он меня.
– В какой истории?
– Да с той, что на зоне, с пожаром. А хотите – расскажу?
– Не откажусь, – согласился я.
– А вам ехать далеко? – беспокойно спохватился он.
– До Москвы.
– Ну что ж, если до Москвы, то, пожалуй… Но – не надоем? Просто если рассказывать, то с самого начала. А это – долго.
Я снова успокоил, подтвердив, что выслушаю с удовольствием. И он начал.
– Знаете, священником мне словно назначено было стать с детства. Родился я в начале восьмидесятых, как раз тогда, когда была популярна эта песня про мальчика, у которого «сестрёнок и братишек нет», помните? Тогда действительно началась мода на свободу, вошло в ход выражение «пожить для себя», и родители в полном соответствии с духом времени, отдали меня на воспитание двоюродной бездетной бабке, жившей в Ярославле. Там я и окончил детский сад, и пошёл в школу. Софья Матвеевна, оказалась набожной старушкой – водила меня в церковь, брала в паломнические поездки по святым местам. Сейчас я понимаю, что она относилась к тем верующим, которых мы, священники, называем православными ведьмами. Вам наверняка встречался этот тип: чихнёшь или оступишься в храме, войдёшь, не сняв шапку, и тут же шипение со всех сторон – как, мол, дерзнул осквернить святое место? Помню, однажды я выбросил сухую просфорку, полученную на заутренней в Лавре, и схлопотал от бабки звонкую пощёчину, от которой два дня пекло щёку. Но за исключением этих, довольно, впрочем, редких эпизодов, моё детство было прекрасно. Представьте себе – каждую неделю мы ехали в какое-нибудь новое место – в скит, в монастырь или в далёкую церковь, где у бабки был знакомый священник. Сегодня все стремятся за границу, а жаль – стоило бы сначала на Россию посмотреть. И в первую очередь, конечно, наши храмы, в которых вся душа страны. Взять хоть Успенский собор во Владимире – знаете, у меня дух захватило, когда я маленьким впервые увидел то, какой величественный вид у него открывается. До сих пор помню себя пятилетним, стоящим над распростёртой перед ним бескрайней равниной. Я смотрел на тёмные, почти чёрные тени облаков, плывущие куда-то вдаль по ярко-зелёному морю, на пронзительно-синее небо, в котором терялся взгляд, и плакал – и не от горя, а от счастья, от ощущения какой-то невероятной свободы. Казалось, стоит шагнуть вперёд – и сам в птицу обратишься и взмоешь ввысь. А гром колоколов, а ослепительный блеск куполов… А ещё Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде, нарядный и яркий как зимний праздник, а величественный, могучий великан Иосифо-Волоцкий, укрытый среди лесов как жемчужина в своей раковине на дне океана… И сколько у нас этих сокровищ, прозябающих в забытьи – в Суздале, во Владимире, в Твери!
Так чудесно было приехать поздно вечером в небольшой скит или монастырскую гостиничку, от усталости заснуть без задних ног, а утром, поднявшись на заре, выйти по холодку к колодцу, или ручью, текущему в соседнем леске, а то и к тихому водопадику, к которому за святой водицей ходят из окрестных деревень. И долго, жадно пить студёную воду, стуча зубами о край жестяного ковшика. В такие моменты узнаёшь о России что-то настоящее…
В десять лет родители забрали меня от бабки, и в четвёртый класс я пошёл уже в Москве. Затем, года через два, старушка моя умерла. На похороны её родители не поехали – отцу перепала командировка за границу, в Венгрию, куда можно было захватить семью. И – не упускать же такую возможность! Помнится, притащили оттуда целую гору одежды – каких-то джинсов, курток, свитеров. Сидели вечером и, не переодевшись с самолёта, самозабвенно разбирали сладкие эти плоды, ухваченные из заграничного потребительского рая. Мерили, назначали – что ушить и что отдать на перекрой, хлопотали, встречая соседей, явившихся за заказами. Ясно помню, как средь озабоченного этого кудахтанья, мать вдруг замерла, застигнутая воспоминанием. И, оглушённая, прошептала, повернувшись к отцу: «А тетю-то Соню похоронили, пока мы ездили!» Спохватились, переглянулись угрюмо, с немым друг другу укором. А в следующую секунду – вновь погрузились в шмотки… – он улыбнулся с грустной иронией. – Знаете – а они ещё живы, милые мои мещанчики, и ни о чём в жизни, представьте, не жалеют… Вообще, что бы ни проповедовали святые отцы, но в вещизме, в животном материализме есть нечто привлекательное, какая-то дьявольская, скотская свобода, почти стоящая и потери души и вечных мук, которыми за неё расплачиваются.
– Серьёзная мысль, – улыбнулся я.
– Ещё какая – всю жизнь мне перепахала, – мрачно отозвался он.
Несколько мгновений мы молчали.
– Да ну так вот, – вдруг продолжил он, как бы спохватившись – Когда мне исполнилось двенадцать, родители расстались. Развод был тяжёлый – делёж имущества, ссоры, скандалы. По решению суда меня отдали матери, которая довольно быстро нашла замену отцу. Потом был новый дружок, за ним – третий… Отец нас не навещал, и я оказался предоставлен самому себе. Пока мать бегала по вечеринкам да налаживала личную жизнь, я или сидел в своей комнате, или одиноко шлялся по двору. Развод родителей сильно повлиял на меня, я замкнулся в себе, стал неразговорчив. В школе из-за этого меня задирали, и я частенько возвращался домой с синяком или ссадиной. Забитый, одинокий, беззащитный, я жил в постоянном страхе. Но в самые тяжёлые моменты спасали воспоминания о бабке. От хмурой повседневности я удирал в мир детства – к монастырям, храмам, добрым батюшкам и серьёзным монахам в пыльных рясах… Класса с восьмого начал и читать кое-что религиозное. От старушки моей осталось немало книг – Иоанн Кронштадтский, Павел Флоренский, Леонтьев. Сначала, конечно, понимал не всё, но чем больше увлекался, тем подробнее изучал и вникал. Мало-помалу передо мной распахнулась целая вселенная, огромный мир, в котором царили доброта, гуманизм и спокойствие – всё то, чего мне не хватало в действительности… К окончанию школы я уже выбрал дорогу в жизни, и, получив аттестат, подал документы в Донскую семинарию.
После рукоположения меня направили в небольшой храм в посёлке Александровка, что в полусотне километров от Ярославля. Первые восемь лет прослужил там дьяконом, а затем получил собственный приходик в другом селе – Валентиновке. К тому моменту у меня уже была семья – жена и маленький сын.
Казалось бы, жизнь вошла в накатанную колею. Но тут-то и начались проблемы. В первую очередь – материальные. Существует легенда, что священники получают какие-то немыслимые деньги, но на деле наше жалованье зависит от обеспеченности паствы. В Александровке приход был богатый – в посёлке располагался большой кирпичный завод. Работали магазины, имелась своя поликлиника, регулярно ходил транспорт. В Валентиновке же едва дышал на ладан нищий колхозик. Кое-кто из местных батрачил в нём за гроши, кто-то устраивался в соседнее Димитрово на овощебазу. Остальные же кто во что горазд: огороды копали, ремонтом мелким промышляли. Главное же – пили. И хорошо бы хоть водку хлестали, но на неё денег не хватало, и тащили в рот всё, что горело – денатурат, самогон, боярышник… Травились, конечно, нещадно, ей-Богу, война меньше народу выкосила. Понятно, что и служба там была совсем скудненькая. Крестины редко, на похоронах почти ничего не заработаешь, да и народ оказался не набожный, стороной храм обходил. Прогрессисты наши из телевизора часто повторяют, что бедные – главные прихожане церкви. Но бедность бедностью, а нищета – совсем другое дело. Сидя на шести тысячах рублей в месяц, да с супругом-алкоголиком, да с оборванными детками уж не о вере думаешь, а о том, чтобы облик человеческий не потерять. Мы с женой под стать пастве едва сводили концы с концами – если бы кур своих не развели да огородик кой-какой не вскопали, то, наверное, впрок бы и по миру идти. Что-то выгадать на одежонку себе и сынишке разве что под Пасху получалось. Жена терпела-терпела, да, наконец, устала – забрала ребёнка и уехала к родителям в Саратов.
Одному мне зажилось тяжко. То хандришь, то отчаиваешься, то тоскуешь по прошлому, а главное – в вере сомневаться начинаешь. Бывало, только задумаешься о Боге, и тут же мысль: за что Он меня оставил? За что отнял семью, обрёк на нищету, лишил будущего? Да и есть ли Он, всемогущий и любящий, вообще? Я упивался обидой, наслаждался ей, каждый раз замечая с каким-то едким сладострастием, что чем она сильнее, тем меньше становится во мне вера. Особенно мутило от того, что, одной рукой отталкивая религию, другой я вынужден был держаться за неё, потому что от неё зависели мои быт, хлеб, крыша над головой. Выполнять же обряды и прочие обязанности, не веря совсем, было бы не то что невозможно, но как-то морально изнурительно. А я уже был так истощён, что не мог принять этого нового бремени.
И как мучительна была эта полувера! Постоянно грязное, муторное ощущение, которого не передать простыми словами. Одновременно и отчаяние, и тоска, и озлобленность ехидная. Как же вам объяснить… Вот, к примеру, читаю под Пасху в газете разоблачения о схождении благодатного огня: ну то, что обычно пишут – будто монахи поджигают, или реакция там какая химическая… Прежде-то, при твёрдой вере, обрывал просто. «Это чудо», – скажу себе, и всё – нет сомнений. Теперь же не только не противлюсь, но читаю, бывало, с увлечением. «И в самом деле – монахи мутят», – думаю со злостью. И тут же как кипятком ошпарит поочерёдно возмущением, ненавистью, обидой. Главное – обидой: отдал жизнь, а чему? Обида эта вместе с жалостью к себе выливалась в какое-то горькое, жаркое наслаждение, в котором я, представьте, часами млел, как в масле варился. Так приучился к нему, что уж и градации появились – лучше всего, если до слёз прошибало, тогда понимаешь, что освободился – будто спазм прошёл. Если нет, то ещё бы посидеть, пожалеть себя да горести посмаковать, накрутиться, одним словом, чтоб потекло из глаз…
И сидишь так час, два, три. Но вот уже время службы и слышны шаги и голоса прихожан на дворе. Говоришь себе: «Ладно, ладно, всё». Делаешь усилие, заслоняясь от сомнений щитом безмыслия, и, ополоснув лицо холодной водой, идёшь служить. Но прежде щит, укреплённый религией, был прочен, теперь же обтёрся о сомнения, истончился, и неверие проникает сквозь него. Стоишь на службе и нет-нет да мелькнёт озорная, как чёртик, мыслишка – дескать, они, прихожане, верят, а я, с важным и серьёзным выражением поучающий их, – нет. И удовольствие злорадное от неё, и сразу же – стыд за это удовольствие. Так тебя два часа из холода в жар и бросает… Из-за этой непрестанной умственной сутолоки я стал грязен, небрежен, груб. Служил без усердия, лишь бы кое-как отделаться. Доходило уже до того, что читаю, бывало, Вечерню на всенощном бдении и думаю – может, закончить на «Сподоби господи», и сразу же, без Литии, «Ныне отпущаеши», тропаря и остального, перейти к освещению хлебов? В такие моменты я буквально ненавидел тех из своих ревностных (а значит – подлинно воцерковлённых) прихожан за то, что те хорошо знали службу и заметили бы ошибку. В такой вот грязи нравственной минули у меня два долгих года.
В январе 2016-го позвонил отец Нестор, благочинный нашего района, и рассказал о том, что протоиерей Николай Маслов, служивший в соседнем селе Кратове, заболел и собирается покинуть служение. На должность его быстро нашли замену, но на одно послушание не оказалось желающих. Рядом с селом находилась колония, на территории которой недавно возвели небольшой храм. И в нём отец Николай по воскресеньям проводил службы. Благочинный, соблазняя любопытством новой обстановки, интересовался – не захочу ли я взять это на себя? Я согласился, но не столько из интереса, сколько желая заработать – тюремное начальство положило священнику пятнадцать тысяч в месяц.
Уже через неделю жизнь моя развернулась на сто восемьдесят градусов. Несмотря на то, что новая обязанность оказалась утомительна – добираться до места приходилось два с половиной часа по плохой дороге, она полностью поглотила меня. Всё дело было в прихожанах. Дома, в Валентиновке, моя паства состояла из десятка чёрных старушек, являвшихся в церковь по привычке, да из нескольких болящих, что надеялись через целование икон и мощей избавиться от страданий. Эти люди воспринимали лишь условную, обрядовую часть религии. Поход в храм для них был сродни еженедельной стирке или посещению врача, само же учение Христа играло роль второстепенную, никак не вовлекаясь в повседневную жизнь. На зоне же всё оказалось иначе. Там были и молодые люди, впервые в заключении посетившие церковь, и старики, к концу пути задумавшиеся о Боге, и люди среднего возраста, матёрые уголовники, ищущие выхода из порочного круга, в который их загнала жизнь. Если в Валентиновке я служил перед десятком истово крестящихся и яростно кланяющихся старушек, бездумно повторявших каждое моё слово, то на зоне из тесной полутьмы храма на меня глянули полсотни любопытных пар глаз, жаждущих, как чудилось тогда, чего-то нового, неких откровений, способных изменить их судьбы. Заключённым я, кажется, понравился. Привлекло и то, что я отказался от охраны, постоянного присутствия которой требовал прежний священник, и то, что после службы общался с каждым желающим. Ко мне подходили за советом и сочувствием, исповедовались, просили дать наставление. Каждого я старался утешить, рассказывал подходящую к случаю историю из Библии или священного предания. И всё это – с энергией, с вдохновением, которых давно не чувствовал у себя.