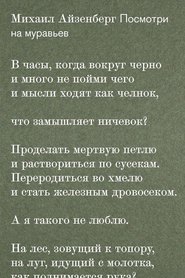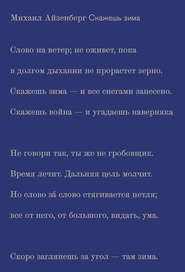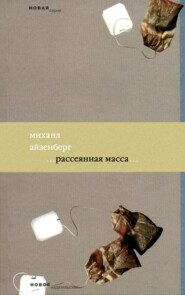По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Это здесь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это здесь
Михаил Айзенберг
В автобиографической прозе Михаила Айзенберга привычные задачи этого жанра – повесть о происхождении и становлении автора, портрет среды и эпохи, нахождение частной формулы большой истории – обнаруживают явный второй, метафизический план. Так рассказ о собственной жизни, ее событиях и героях превращается в историю поисков точки опоры и способов сопротивления – социальному злу, экзистенциальному отчаянию, необратимому ходу времени и вездесущему небытию.
[b]Содержит нецензурную брань![/b]
Михаил Айзенберг
Это здесь
1. Похоже на Париж
Надписи на стенах
Напротив нашего дома стоит особняк, где когда-то была резиденция Шеварднадзе, и теща как-то раз приветственно махала ему из окна как знаменосцу перестройки и гласности. Как все переменилось!
Короткая дорога к метро идет мимо бокового фасада этого особняка – торцовой стены, самой природой предназначенной для надписей и граффити. Это своего рода каменная летопись, точнее ее палимпсест. Сейчас вся стена в аккуратных ступенчатых выкрасках и в целом смотрится симпатичной абстрактной композицией в духе Сержа Полякова. Но я-то помню ее в другие, не такие абстрактные времена.
Ранние надписи на этой стене типичны и заурядны, не могу вспомнить ни одной. Осенью 1993-го появились большие кривые буквы: «ЕЛЬЦЫН ИУДА». Первые две буквы «иуды» быстро и халтурно замазали, превратив проклятье в верноподданнический слоган. Выполнено это было формально и без настоящего усердия: квадратики более светлой краски легко подсказывали исходную злобу дня. Примерно через месяц замазали все.
Через несколько лет на том же месте другая рука вывела более актуальный лозунг «Смерть жидам». Не знаю, кто должен следить за такой агитацией, но этот кто-то не торопился. Много месяцев я ходил мимо особняка в ту и в другую сторону, подставляя то правую щеку, то левую.
Первые годы нового тысячелетия украсили стену какими-то молодежными иероглифами, мне, к счастью, не доступными. Сменившие их ацтекские росписи тоже содержат свою информацию, но и она до меня не доходит.
Сейчас в городе большинство надписей – такого рода. Какое-то руническое письмо, значки для посвященных. Но ведь кто-то в них разбирается, кому-то это письмо адресовано! Его читают новые жители.
А я иду по родному городу как по чужому, слепо озираясь по сторонам.
Прямые сообщения
Есть такая известная московская группа граффитистов, украшающих все, до чего могут дотянуться, штампованной надписью «Зачем?». Я слежу за их деятельностью с пониманием и сочувствием. Вопрос действительно уместный. Надо все-таки понять наконец: зачем? Зачем мы здесь живем? По любви? Но Москва – такое место, что ее нелегко любить безоглядно.
Однажды я прочитал фразу, процарапанную на заиндевелом стекле троллейбуса: «Терпите люди скоро лето», и она стала моим жизненным кредо.
Однажды я заметил надпись мелом на одном из кирпичей неоштукатуренной стены: «Я тоже». Это высказывание кажется мне одним из лучших минималистских стихотворений – но не на бумаге, а именно там, на стене, как если бы это было высказывание самого кирпича.
На другой кирпичной стене я увидел крупные печатные буквы зеленой краской: «КИРПИЧИ!» Тогда, помню, появились некоторые размышления о «низовом концептуализме».
Вот надпись на стене соседнего дома: «Остаюсь самим собой – никто и звать никак».
А вот надпись под нашей аркой: «Все бабы бляди а солнце ебаный фонарь». По-моему, неплохо. Энергично, лапидарно.
«Маша Петрова сука и проститутка» – это написано твердой рукой, крупными буквами. А ниже кривовато и небрежно: «Да ладно!»
У города есть свой язык, даже множество языков, но какие-то из них – шифрованные. Мы, безусловно, слышим (точнее, видим) речь города, но не очень понимаем и как бы не впускаем в сознание. Почти без сопротивления позволяем кому-то ее прервать, а потом удивляемся: какой чужой стал город, совсем не мой. На самом деле нужно произносить слитно: «немой».
Городское пространство
У Москвы несколько масштабных сеток, и мысли о ней разъезжаются как на льду: при всей ощутимой мощи ее силового поля она не складывается в отчетливый и внятный сознанию пространственный знак. Старый город рассыпается как кроссворд – ничего уже не угадаешь. Новый город реагирует на старый, как живой организм на неорганические включения: обволакивает и пытается рассосать. Недаром в фильмах Москву все чаще показывают сверху: как фосфоресцирующие кольца гигантского спрута.
И все же не иссякает в Москве запас покоя. Здешнее пространство по своему начальному характеру – спокойное, ненапряженное. Напирают окраины, ускоряется жизнь, а внутри Садового кольца все равно какая-то мягкая сетка, и катишься по ней как мячик по гамаку.
Может, это не один город, а несколько, существующих один внутри другого наподобие матрешки. И по тому же негласному правилу входят друг в друга разнопородные малые пространства Москвы. Двор всеми силами не подчиняется архитектурным указаниям улицы: там своя жизнь, более вольготная и не вполне городская. Самочинно, неостановимо растет естественная «среда» – почти бесхозная и безродная, почти безымянная. Вечные времянки. Стихийная, низовая архитектура иногда выползает на улицу и исподтишка пытается подчинить себе ближайший городской участок.
На какую-нибудь Ольховскую улицу и сейчас заходишь, как в другой, полуслободской мир. Домики лепятся к домам, сараи – к домикам, гаражи – к сараям. Тянутся вверх ничейные голубятни. Ничейные собаки поднимаются с асфальта и сердито лают на чужака. Люди, стоящие редкими небольшими кучками, поворачивают головы и провожают тебя внимательными взглядами: чужой пришел.
Ностальгия
Конечно, я помню, что стонами о вандализме были заполнены страницы дореволюционного журнала «Столица и усадьба», а Павел Муратов сетовал на современное (ему) убожество и упадок вкуса.
Саша Асаркан внушал нам: «Ничего-ничего. Рядом с этим монстром появится со временем другое страшилище, потом третье, и глядишь – возникнет какой-то ансамбль».
Вероятно, ностальгия – союзница эстетического чувства. Время работает против прежних вкусовых предпочтений, заволакивая объекты особой патиной и ностальгическим флером. Ностальгия смягчает убожество, переводит его в другое состояние. Появляется дистанция, и «сквозь прощальные слезы» все видится жалким, несуразным, родным.
Взгляд со стороны
«Тот, кто родился и вырос в Москве, знает, что времени нет, есть только место. Однако, переселившись в Лондон, понимаешь, что места тоже мало», – пишет Зиник. После переселения в Лондон он вновь оказался в Москве только в 1988 году. Мы шли по Петровке, остановились у перехода. Зиник оглядывался по сторонам и чему-то, казалось, удивлялся. «Слушай, – сказал он вдруг, – а Москва – красивый город. Похож на Париж…» Он задумался, пытаясь определить разницу. «Только после бомбежки».
Не торопясь, гуляя, идем с ним по Потаповскому переулку. Вдруг он резко останавливается и завороженно на что-то смотрит: «Блядь, как это красиво!» Я пытаюсь проследить направление его взгляда, поймать объект восхищения, но мне это никак не удается. Перед нами обшарпанный конструктивистский дом «покоем» и жалкий скверик. В центре скверика на высоком столбе небольшая голова Ильича, выкрашенная оливковой краской.
– Ничего этого скоро не останется, все снесут на хер, – сокрушается мой друг.
Речь, как выясняется, идет именно о голове. А год, между прочим, восемьдесят восьмой, ни о каком сносе ильичей никто не помышляет. Я тогда высмеял Зиника, но, как оказалось, зря. Прошло около двух лет, и голова действительно исчезла. Унесли ее ночью, тайком, как у булгаковского Берлиоза. Остался один столб. На короткое время его увенчал Георгий, побеждающий змия, но и он скоро исчез: дети очень пугались с непривычки.
Восхищение объектом, от которого я, проходя, привычно отворачивался, осталось для меня загадкой. Объяснение, я думаю, не в юношеской дружбе Зиника с Аликом Меламидом, изобретателем соц-арта. Дело, скорее, в эмиграции.
Один совсем случайный человек попросил провести его по Москве. Американец китайского происхождения, он выбрал себе занятную профессию: писать путеводители. Объездил весь мир, не бывал только в нескольких странах, например в России. И вот приехал.
Мы шли от реки, и я готовил ему собор Василия Блаженного как праздничный торт-сюрприз, но китаец только вежливо поинтересовался, из чего сделаны купола. Прошли мимо храма, вышли на площадь. Мой спутник замедлил шаг и сразу отстал. Я обернулся: он стоял, ошеломленно озираясь.
– Это невероятно, – сказал он. – Такого нет нигде.
«На Красной площади всего круглей земля». Эта строчка точна как открытие в физике. Но мне не хватает конкретных знаний, чтобы подтвердить ее точность и довести мысль до конца. Мне не хватает естественно-научного образования.
«Продолжал тосковать по Москве… По темноте закрытых фасадов. По странному ощущению присутствия души, борьбы душ за выживание» (Э. Юсефсон).
Иностранцев поражает, как по-другому движется толпа в московском метро: компактно и плотно, как бы придерживаясь строя.
Венский уроженец Эрих Кляйн говорит, что люди, живущие в Москве, отличны от прочих: иначе двигаются, иначе стоят на земле – тяжело, напряженно. Чувствуется, что каждое движение дается им с усилием, невозможным в каком-либо другом месте. Эрих считает, что это делает Москву особенным и очень важным местом.
– И еще, – добавил Эрих, – чувствуется, что почти весь центр, до Садового кольца, не принадлежит людям, которые там ходят и даже живут.
Такое можно увидеть только со стороны, хотя пластика, конечно, – вещь из самых разоблачительных. У каждого есть опыт наблюдения и основанное на нем почти бессознательное считывание языка телесности, проговорок мимики и мускулатуры. Это не то, что другой человек показывает, а то, что он не в силах скрыть, и без такого полуподпольного знания не существовало бы здравого смысла. Какой зверь перед тобой, узнаешь по его повадке.
Но общего между ними (между нами) изнутри не увидишь. К примеру, художнику Михаилу Рогинскому нужно было пятнадцать лет прожить в Париже, чтобы увидеть, как люди в Москве ходят, как они стоят. Стоят, что называется, «как вкопанные»: как вкопанные в землю столбы.
«Хрусталев, машину!»
Наш с Эрихом разговор, подчиняясь собственной логике, перекинулся на фильм «Хрусталев, машину!». Меня там потрясли первые сцены: ночная улица, свет, снег, решетка особняка. Со мной происходило что-то необъяснимое: экранное изображение как будто затягивало меня внутрь. Только потом я понял, что съемки проходили на Новой Басманной улице, и этот особняк – Центральный дом детей железнодорожников, куда я ходил на кружковые занятия начиная с пятьдесят четвертого года. Всего на год позже того времени, в котором происходит действие фильма. При почти полном совпадении места и времени я могу выступать свидетелем и подтверждаю совершенно невероятную подлинность воссоздания световоздушной среды. Этот липкий свет, этот промозглый воздух, полный ужаса, как будто изрытый сапогами.
Михаил Айзенберг
В автобиографической прозе Михаила Айзенберга привычные задачи этого жанра – повесть о происхождении и становлении автора, портрет среды и эпохи, нахождение частной формулы большой истории – обнаруживают явный второй, метафизический план. Так рассказ о собственной жизни, ее событиях и героях превращается в историю поисков точки опоры и способов сопротивления – социальному злу, экзистенциальному отчаянию, необратимому ходу времени и вездесущему небытию.
[b]Содержит нецензурную брань![/b]
Михаил Айзенберг
Это здесь
1. Похоже на Париж
Надписи на стенах
Напротив нашего дома стоит особняк, где когда-то была резиденция Шеварднадзе, и теща как-то раз приветственно махала ему из окна как знаменосцу перестройки и гласности. Как все переменилось!
Короткая дорога к метро идет мимо бокового фасада этого особняка – торцовой стены, самой природой предназначенной для надписей и граффити. Это своего рода каменная летопись, точнее ее палимпсест. Сейчас вся стена в аккуратных ступенчатых выкрасках и в целом смотрится симпатичной абстрактной композицией в духе Сержа Полякова. Но я-то помню ее в другие, не такие абстрактные времена.
Ранние надписи на этой стене типичны и заурядны, не могу вспомнить ни одной. Осенью 1993-го появились большие кривые буквы: «ЕЛЬЦЫН ИУДА». Первые две буквы «иуды» быстро и халтурно замазали, превратив проклятье в верноподданнический слоган. Выполнено это было формально и без настоящего усердия: квадратики более светлой краски легко подсказывали исходную злобу дня. Примерно через месяц замазали все.
Через несколько лет на том же месте другая рука вывела более актуальный лозунг «Смерть жидам». Не знаю, кто должен следить за такой агитацией, но этот кто-то не торопился. Много месяцев я ходил мимо особняка в ту и в другую сторону, подставляя то правую щеку, то левую.
Первые годы нового тысячелетия украсили стену какими-то молодежными иероглифами, мне, к счастью, не доступными. Сменившие их ацтекские росписи тоже содержат свою информацию, но и она до меня не доходит.
Сейчас в городе большинство надписей – такого рода. Какое-то руническое письмо, значки для посвященных. Но ведь кто-то в них разбирается, кому-то это письмо адресовано! Его читают новые жители.
А я иду по родному городу как по чужому, слепо озираясь по сторонам.
Прямые сообщения
Есть такая известная московская группа граффитистов, украшающих все, до чего могут дотянуться, штампованной надписью «Зачем?». Я слежу за их деятельностью с пониманием и сочувствием. Вопрос действительно уместный. Надо все-таки понять наконец: зачем? Зачем мы здесь живем? По любви? Но Москва – такое место, что ее нелегко любить безоглядно.
Однажды я прочитал фразу, процарапанную на заиндевелом стекле троллейбуса: «Терпите люди скоро лето», и она стала моим жизненным кредо.
Однажды я заметил надпись мелом на одном из кирпичей неоштукатуренной стены: «Я тоже». Это высказывание кажется мне одним из лучших минималистских стихотворений – но не на бумаге, а именно там, на стене, как если бы это было высказывание самого кирпича.
На другой кирпичной стене я увидел крупные печатные буквы зеленой краской: «КИРПИЧИ!» Тогда, помню, появились некоторые размышления о «низовом концептуализме».
Вот надпись на стене соседнего дома: «Остаюсь самим собой – никто и звать никак».
А вот надпись под нашей аркой: «Все бабы бляди а солнце ебаный фонарь». По-моему, неплохо. Энергично, лапидарно.
«Маша Петрова сука и проститутка» – это написано твердой рукой, крупными буквами. А ниже кривовато и небрежно: «Да ладно!»
У города есть свой язык, даже множество языков, но какие-то из них – шифрованные. Мы, безусловно, слышим (точнее, видим) речь города, но не очень понимаем и как бы не впускаем в сознание. Почти без сопротивления позволяем кому-то ее прервать, а потом удивляемся: какой чужой стал город, совсем не мой. На самом деле нужно произносить слитно: «немой».
Городское пространство
У Москвы несколько масштабных сеток, и мысли о ней разъезжаются как на льду: при всей ощутимой мощи ее силового поля она не складывается в отчетливый и внятный сознанию пространственный знак. Старый город рассыпается как кроссворд – ничего уже не угадаешь. Новый город реагирует на старый, как живой организм на неорганические включения: обволакивает и пытается рассосать. Недаром в фильмах Москву все чаще показывают сверху: как фосфоресцирующие кольца гигантского спрута.
И все же не иссякает в Москве запас покоя. Здешнее пространство по своему начальному характеру – спокойное, ненапряженное. Напирают окраины, ускоряется жизнь, а внутри Садового кольца все равно какая-то мягкая сетка, и катишься по ней как мячик по гамаку.
Может, это не один город, а несколько, существующих один внутри другого наподобие матрешки. И по тому же негласному правилу входят друг в друга разнопородные малые пространства Москвы. Двор всеми силами не подчиняется архитектурным указаниям улицы: там своя жизнь, более вольготная и не вполне городская. Самочинно, неостановимо растет естественная «среда» – почти бесхозная и безродная, почти безымянная. Вечные времянки. Стихийная, низовая архитектура иногда выползает на улицу и исподтишка пытается подчинить себе ближайший городской участок.
На какую-нибудь Ольховскую улицу и сейчас заходишь, как в другой, полуслободской мир. Домики лепятся к домам, сараи – к домикам, гаражи – к сараям. Тянутся вверх ничейные голубятни. Ничейные собаки поднимаются с асфальта и сердито лают на чужака. Люди, стоящие редкими небольшими кучками, поворачивают головы и провожают тебя внимательными взглядами: чужой пришел.
Ностальгия
Конечно, я помню, что стонами о вандализме были заполнены страницы дореволюционного журнала «Столица и усадьба», а Павел Муратов сетовал на современное (ему) убожество и упадок вкуса.
Саша Асаркан внушал нам: «Ничего-ничего. Рядом с этим монстром появится со временем другое страшилище, потом третье, и глядишь – возникнет какой-то ансамбль».
Вероятно, ностальгия – союзница эстетического чувства. Время работает против прежних вкусовых предпочтений, заволакивая объекты особой патиной и ностальгическим флером. Ностальгия смягчает убожество, переводит его в другое состояние. Появляется дистанция, и «сквозь прощальные слезы» все видится жалким, несуразным, родным.
Взгляд со стороны
«Тот, кто родился и вырос в Москве, знает, что времени нет, есть только место. Однако, переселившись в Лондон, понимаешь, что места тоже мало», – пишет Зиник. После переселения в Лондон он вновь оказался в Москве только в 1988 году. Мы шли по Петровке, остановились у перехода. Зиник оглядывался по сторонам и чему-то, казалось, удивлялся. «Слушай, – сказал он вдруг, – а Москва – красивый город. Похож на Париж…» Он задумался, пытаясь определить разницу. «Только после бомбежки».
Не торопясь, гуляя, идем с ним по Потаповскому переулку. Вдруг он резко останавливается и завороженно на что-то смотрит: «Блядь, как это красиво!» Я пытаюсь проследить направление его взгляда, поймать объект восхищения, но мне это никак не удается. Перед нами обшарпанный конструктивистский дом «покоем» и жалкий скверик. В центре скверика на высоком столбе небольшая голова Ильича, выкрашенная оливковой краской.
– Ничего этого скоро не останется, все снесут на хер, – сокрушается мой друг.
Речь, как выясняется, идет именно о голове. А год, между прочим, восемьдесят восьмой, ни о каком сносе ильичей никто не помышляет. Я тогда высмеял Зиника, но, как оказалось, зря. Прошло около двух лет, и голова действительно исчезла. Унесли ее ночью, тайком, как у булгаковского Берлиоза. Остался один столб. На короткое время его увенчал Георгий, побеждающий змия, но и он скоро исчез: дети очень пугались с непривычки.
Восхищение объектом, от которого я, проходя, привычно отворачивался, осталось для меня загадкой. Объяснение, я думаю, не в юношеской дружбе Зиника с Аликом Меламидом, изобретателем соц-арта. Дело, скорее, в эмиграции.
Один совсем случайный человек попросил провести его по Москве. Американец китайского происхождения, он выбрал себе занятную профессию: писать путеводители. Объездил весь мир, не бывал только в нескольких странах, например в России. И вот приехал.
Мы шли от реки, и я готовил ему собор Василия Блаженного как праздничный торт-сюрприз, но китаец только вежливо поинтересовался, из чего сделаны купола. Прошли мимо храма, вышли на площадь. Мой спутник замедлил шаг и сразу отстал. Я обернулся: он стоял, ошеломленно озираясь.
– Это невероятно, – сказал он. – Такого нет нигде.
«На Красной площади всего круглей земля». Эта строчка точна как открытие в физике. Но мне не хватает конкретных знаний, чтобы подтвердить ее точность и довести мысль до конца. Мне не хватает естественно-научного образования.
«Продолжал тосковать по Москве… По темноте закрытых фасадов. По странному ощущению присутствия души, борьбы душ за выживание» (Э. Юсефсон).
Иностранцев поражает, как по-другому движется толпа в московском метро: компактно и плотно, как бы придерживаясь строя.
Венский уроженец Эрих Кляйн говорит, что люди, живущие в Москве, отличны от прочих: иначе двигаются, иначе стоят на земле – тяжело, напряженно. Чувствуется, что каждое движение дается им с усилием, невозможным в каком-либо другом месте. Эрих считает, что это делает Москву особенным и очень важным местом.
– И еще, – добавил Эрих, – чувствуется, что почти весь центр, до Садового кольца, не принадлежит людям, которые там ходят и даже живут.
Такое можно увидеть только со стороны, хотя пластика, конечно, – вещь из самых разоблачительных. У каждого есть опыт наблюдения и основанное на нем почти бессознательное считывание языка телесности, проговорок мимики и мускулатуры. Это не то, что другой человек показывает, а то, что он не в силах скрыть, и без такого полуподпольного знания не существовало бы здравого смысла. Какой зверь перед тобой, узнаешь по его повадке.
Но общего между ними (между нами) изнутри не увидишь. К примеру, художнику Михаилу Рогинскому нужно было пятнадцать лет прожить в Париже, чтобы увидеть, как люди в Москве ходят, как они стоят. Стоят, что называется, «как вкопанные»: как вкопанные в землю столбы.
«Хрусталев, машину!»
Наш с Эрихом разговор, подчиняясь собственной логике, перекинулся на фильм «Хрусталев, машину!». Меня там потрясли первые сцены: ночная улица, свет, снег, решетка особняка. Со мной происходило что-то необъяснимое: экранное изображение как будто затягивало меня внутрь. Только потом я понял, что съемки проходили на Новой Басманной улице, и этот особняк – Центральный дом детей железнодорожников, куда я ходил на кружковые занятия начиная с пятьдесят четвертого года. Всего на год позже того времени, в котором происходит действие фильма. При почти полном совпадении места и времени я могу выступать свидетелем и подтверждаю совершенно невероятную подлинность воссоздания световоздушной среды. Этот липкий свет, этот промозглый воздух, полный ужаса, как будто изрытый сапогами.