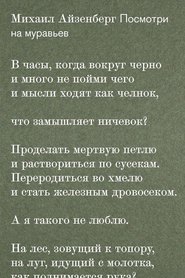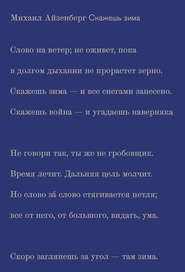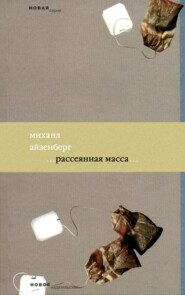По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Это здесь
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Оно тяжелеет с каждым годом, – и он передернул плечами, как бы показывая вес пальто.
Мы вышли и сели на отрытую кладку фундамента, подложив доску. Дул сильный ветер, пригибал репейники и траву, взметал бумажки. Он высмотрел одну из них, поднял, разгладил. «Смотри-ка, „коровка“. А печенье, которое я тебе нес, называлось „молочное“».
Сергей аккуратно свернул фантик и положил в спичечную коробку. «Эти спички мне Алена подарила. Наверное, на выздоровление». На этикетке был нарисован петух-пожар, рожденный от зажженной спички, и он пояснил свою мысль: «Тут петушок, а петуха обычно дарят на выздоровление. Вот мне от вас подарочек».
Потом заговорил про архитектора Витберга: «Результатом его деятельности была идея храма Христа Спасителя. Остальное уже борьба – сметы и прочее».
Примерно через год приехали родственники, увезли его к себе в Краснодар, и в той бесконечной, чудовищной квартирной тяжбе, которую они затеяли с его женой, еще долго мелькали то явно лживое «покушался на свою жизнь, еле выходили», то со слезами и достоверное до слез «лежит на полу под занавеской, не хочет лечь на постель».
Ванины подарки
Иван легко передаривал подарки. Кто-то подарил ему тонкий перламутровый мундштук в прелестном чехольчике, но он выпал из его руки и треснул именно в тот день, когда Алена сломала ногу. Иван решил, что это неспроста, склеил мундштук и подарил Алене.
Подарки были и к случаю, и так – по настроению. Раковина или мраморная пирамидка, китайская фигурка самурая с потертой раскраской – красной, зеленой и золотистой. «Братья Карамазовы» издания «Всемирной библиотеки» в драгоценном переплете и с экслибрисом князя Кудашева. На кожаный, чудесно потемневший раскладной портфель начала века без Ивана я не обратил бы внимания, а сейчас он висит в моей комнате как редкий артефакт, как произведение искусства.
Но подарком – и, что называется, «дорогим подарком» – могли стать красивый камень или стеклянный шарик. Или ветка – но «ветка Палестины».
Иван, знаток и ценитель таких странных, завораживающих предметов, как будто оживлял их своим вниманием. Его комната была наполнена подобными вещами: старая ширма, шпага, буддийская иконка, деревянный ангелок, вычурная металлическая защелка для бумаг.
Все эти вещи очень интересовали маленького сына Ивана – тоже Ивана Ивановича, как с незапамятных времен именовались почти все мужчины в их роду, соединившем провинциальных дворян и священников.
Иван подхватывал Ивана Ивановича на руки и подбрасывал:
– Батыр! Вырастешь – батыр будешь. Ногти грызть будешь. В кино будем с тобой ходить. На футбол пойдем.
И показывал сына коту Рыжему, который сегодня почему-то звался Андреем:
– Андрюха, смотри на батыра! Батыр, поздоровайся с дядей Андреем. Андрюха-а! Ветха-ай! Вырастет батыр – мучить тебя будет, трепать.
Значок для памяти
Под нашими окнами снимается историческое кино. Статисты-солдатики маршируют и скандируют: «Только правой, правой! Наша правая нога, раздави скорей врага».
Иван возвращался с работы в глубокой задумчивости и внезапно оказался как бы в «своем» времени – среди сюртуков и косовороток, кричащих ура трехцветному знамени. «Странно, – рассказывал он, – но никакой существенной разницы я не почувствовал. Снова ряженые».
– Я думаю, что исторический маятник не совпадает с бытовым, – говорит Иван, – и второй отстает, запаздывает. Бытовая – коренная – революция совершилась тоже за четыре года, но уже в период с пятидесятого по пятьдесят четвертый, когда к власти пришло поколение, действительно воспитанное той революцией. А она не смогла бы породить даже Сталина. Все отмечают этот коренной сдвиг.
…Не бывает без вины виноватых. А жаль – ведь так приятно чувствовать себя несчастным без вины. И самое ужасное, что нельзя почувствовать этой вины, пока не наступит наказание.
Мы расположились на ковре, зажгли свечку. Иван принес на подносе желтый китайский чай и пиалы, а свечку переставил за ширму с красными и синими стеклами. Свет стал красным и синим. Громко тикают дедушкины часы. Иван включил проигрыватель и поставил средневековую европейскую музыку, очень неожиданную по звучанию: если не знать, заподозришь скорее Среднюю Азию или Закавказье.
– Да? Ты заметил? Совершенно восточные мелодии. Вообще, на многое начинаешь смотреть иначе. На наших впечатлениях как слой жира, как навар на котле лежит девятнадцатый век. А он был бездарен во всех отношениях. Кроме, пожалуй, литературы.
– А разве так бывает? Разве так может быть, что кругом бездарен, а где-то одарен? Может, мы не понимаем этот век или не понимаем, что такое литература? Если говорить о литературе именно середины, второй половины девятнадцатого века, то и ее не миновали общие черты времени – тяжелодумная пытливость и какая-то массивная, но в то же время рыхлая основательность. Мы этого почти не чувствуем, потому что не знали другого. Или почти не знали. Может, потому и Пушкин нам один свет в окошке, что это окошко и в восемнадцатый век, и в другую литературу. Которой мы по существу не видели, но знаем, что где-то все это есть – и стремительная точность, ясность на грани исчезновения, и летучее, неуловимое изящество…
Пластинка кончилась. Иван сделал на конверте значок для памяти. Потом заиграл на дудочке, и станина разобранного рояля отозвалась легким гармоническим дребезжанием.
– Вера в Бога – это самоотречение.
– Кто это сказал? Кому оно нужно, это самоотречение? Богу? Во имя чего?
– Во имя Бога.
– Но какой смысл в том, чтобы отказываться от себя, умирать раньше времени?
– Но ведь смерти нет. Ты не отказываешься от жизни, наоборот – готовишь себя к будущей жизни. Без этого Бог – просто начальство.
А наутро звонок: «Ты не хочешь выпить?» Чуть больше, чем искупаться в проруби. Да и спал всего три часа.
– Ну, я-то вообще не спал. Ладно, тебя сейчас, конечно, начнет мучить совесть и все такое. Пока!
И опять короткие гудки.
Дудочки
Все происходило постепенно, а началось с желания проскочить в застолье фазу разговора и поскорее выйти в чистый кайф: игру на дудочках, слушание музыки. Поначалу я очень удивлялся этим превращениям.
Дудочки делались из бамбуковых палок, а те продавались в «Детском мире» как карнизы для штор и стоили копейки. Иван и Витя приходили с целыми охапками таких самодельных дудок и начинали по очереди опробовать каждую. Испытания (в обоих смыслах) затягивались надолго, иногда занимали весь вечер. Потом обнаружилось, что в принципе гудит любая труба, и началась эпоха экспериментов. Металл звучал глухо, заунывно, но технические трубы из пластика давали низкий глубокий звук, и тем глубже, чем длиннее труба. Только занести в дом такой инструмент было непросто.
Когда мои друзья шли к кому-то в гости, их можно было издали принять за водопроводчиков. Вблизи уже нельзя.
Коктебель
В поезде мы встретили знакомых художников, и весь первый день просидели в их купе. После пятой бутылки мой товарищ начал читать стихи и читал потом еще несколько дней, стихами отвечая на все вопросы. «Медный всадник», «Зимние сонеты» Вячеслава Иванова, Ходасевич, опять «Медный всадник». «И он по площади пустой / Бежит и слышит за собой – / Как будто грома грохотанье». Что-то действительно грохотало и перекатывалось в его голосе; что-то стояло за этими навязчивыми восклицаниями. Стихи вырывались как кашель или лай.
– Да уймись ты наконец, – не выдержал самый простоватый из художников, коренастый и похожий на монгола. – Давай я тебе стихи прочту: «Шумит как улей родной завод…»
Когда я поволок чтеца-исполнителя в наше купе, он стал притворяться еще более пьяным, чем был: со смехом валился на меня и оседал. Я зашел спереди и потащил его за собой, он радостно ехал за мной как по льду. В спящем купе веселье разобрало его уже не на шутку. Стоять он не мог, все садился с хохотом на пожилого соседа, закутанного в простыню, и тузил меня кулачками. Я поднимал его рывками, свободной рукой расшвыривая постель. Потом долго не давал скатываться, уговаривал не шуметь…
– Хорош ваш товарищ, – мрачно говорил наутро бреющийся сосед. – Уже ушел с каким-то, и бутылку взяли.
Когда я прибежал к художникам, там опять гремели и рокотали стихи.
Уже показались крымские холмы и полоска моря. Мой друг узнавал знакомые места и смеялся. Он продолжал смеяться и на вокзале в Феодосии под увитыми плющом арками. Растительная тень накрывала его лицо и плечи. Он закатывался, широко, с подвыванием втягивая воздух и дрожа, словно окоченел от сотрясающего его смеха.
– Ты понимаешь, я эти тополя видел, когда был вот такого роста, – они казались огромными.
В такси он, наконец, заплакал, но продолжал смеяться, смеялся и всхлипывал, катаясь головой по спинке сиденья. Невозмутимый шофер включил приемник на полную громкость, и под какую-то отчаянную плясовую мы вкатили в Планерское.
– Это было зрелище, как вы приехали, – сказал Димка. – Как купцы в табор.
Меня окружает панорама кисти известных художников. Я целый день оборачиваюсь, стараясь ничего не упустить. Мне мешает глянцевая законченность пейзажа. Горы светятся открыточным блеском. На склонах как нити слюны лежат тончайшие тропки.
В очереди за пивом все показывали взглядом на стоящего там с бидончиком Петра Якира, человека с непоправимо испорченной на тот момент репутацией. Он взял еще и две кружки, поискал глазами свободное сидячее место и, не найдя, встал на колени.
В знаменитую «киселевку», дом из автомобильных покрышек, мы зашли, видимо, без необходимых (или достаточных) рекомендаций, и встретили нас неприветливо. Сам Киселев, хозяин дома, сидел как изваяние и неопределенно посматривал из своего угла. В прорезях его глаз словно клубился светлый дым. Перед ним богатырской заставой расположились полузнакомый тогда Шейнкер и еще не знакомый Кривулин. Тот изучал нас с питерской прямотой и бесцеремонностью. Или, если угодно, с питерской церемонностью: это два разных определения одного и того же откровенного взгляда на чужака – как бы через лорнет. Шейнкер был угрюм и молчалив, как пират Гарри.
Подошла собака. Мы предложили ей что-то из захваченных с собой припасов, но та не взяла.