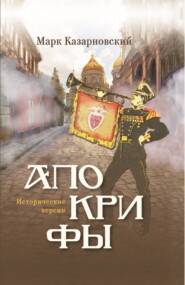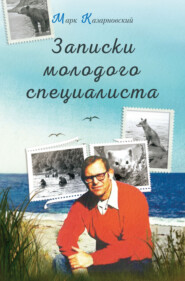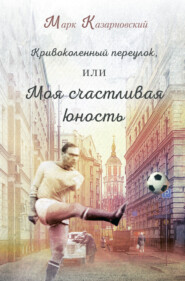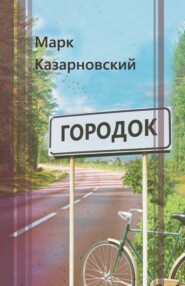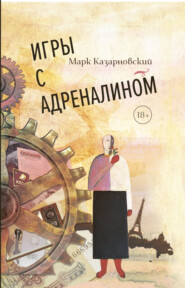По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Абрамцевские истории
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Абрамцевские истории
Марк Яковлевич Казарновский
В книгу вошли рассказы, написанные Марком Казарновским в начале 2000-х годов. Автор писал для своих друзей, с которыми коротал вечера в посёлке Абрамцево во времена перестройки и развала СССР.
Для Марка Казарновского подмосковное Абрамцево – это некое государство, живущее по своим законам и очень похожее на Россию конца прошлого и начала нынешнего века. Все рассказы имеют реальную основу.
Поступки героев гиперболизированы, но отражают характеры прототипов.
Марк Казарновский
Абрамцевские истории
Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи
Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый,
И я упаду, побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои,
Когда я вернусь… А когда я вернусь?
Александр Галич
© Казарновский М.Я., 2024
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2024
От автора
Несколько слов о героях этой книги и их прототипах
Истории про абрамцевских обитателей я писал, коротая вечера в посёлке Абрамцево под Москвой в конце прошлого века. В этих рассказах многое будет непонятно тем, кто не жил в России в девяностые годы двадцатого века и тем более не был знаком с прототипами моих героев.
Поэтому я считаю необходимым немного рассказать о людях, с которыми я дружил в те годы и которые в моих рассказах оказались в необычных, часто абсурдных ситуациях. Как мне кажется, вся эта фантасмагория вполне могла произойти с ними в реальной жизни, учитывая их темпераменты, взгляды на жизнь и душевный настрой.
Начну с тех времен, когда мы с женой решили «снять дачу» в деревне Глебово, что недалеко от всем известной усадьбы «Абрамцево» и одноимённого дачного посёлка, где проживали и до сих пор проживают творческие люди – художники, литераторы, известные актёры, а также народ попроще, издавна живший в этих чудесных краях с родниками, вековыми дубами, живописной речкой Воря ещё до того, как здесь поселилась интеллектуальная элита. У коренных обитателей Абрамцева дома были поскромнее, да и территории поменьше, но достаточно обширные. Абрамцево окружали деревни с избами-пятистенками и небольшими наделами земли, на которых хозяева умудрялись выращивать овощи, чтобы хватило на всю зиму, да ещё и скот держать.
В такой вот деревеньке в километре от Абрамцева в самом начале шестидесятых годов доярка Лида Батракова сдала нам веранду и комнату в летнем домике, куда мы и вселились.
Стали обзаводиться знакомыми. Оказалось, что в Абрамцеве, недалеко от нашей деревеньки, живут друзья наших хороших знакомых – Ира-переводчица и её муж – оператор Саша Ревазов, а напротив их дома – известный автогонщик Владимир Нейман. Их связывает крепкая дружба с Анатолием Авраамовичем Павельевым, доктором технических наук и большим знатоком поэзии Пушкина.
Забегая вперёд, скажу, что через несколько лет я стал соседом Анатолия Авраамовича. Вот как всё в жизни связано!
А пока герои моих будущих рассказов жили в Абрамцеве, а я неподалеку – в Глебово.
Росла дочь. Неожиданно появился зять и увёз её очень далеко. Одно поколение домашних животных сменилось другим.
И наконец я построил свой Дом. В Абрамцеве. Строил быстро. Постоянно что-то изменял в планировке. Перестраивал. Получилось здорово.
В моём абрамцевском доме всегда было тепло и шумно. Приходили соседи, друзья. Дочка подбрасывала нам на каникулы старших сыновей, в такие моменты на помощь моей жене Эле сразу же из Москвы приезжала Оля – давний и верный друг семьи. Часто заглядывали одноклассница Неймана Наташа Надтел и техник-умелец Евгений Швец.
И конечно же – вечерние посиделки с Ревазовым, Нейманом и Павельевым. Выпито было много.
Так и родились «Абрамцевские истории».
Когда приходит успех, или Сон в зимнюю ночь
В мансардной квартирке на улице Мари-Роз, дом 17, которую я снимал в Париже уже второй год, было холодно и темно. Холодно, потому что я экономил электроэнергию, обогревающую это жилище, а темно, потому что в этой квартирке было всегда темно. Даже если я включал все светильники. Или не все – разницы не было, было темно. На улице шёл дождь, была зима, и Париж из розового весной, тёмно-зелёного летом и красного – осенью, теперь выглядел серым, нахохлившимся и промокшим, как голуби, галки и прочие птицы, живущие рядом с моим мансардным окном. А может быть, это мне всё казалось. У меня был насморк, драло немилосердно горло; из зеркала на меня глядел воспалёнными красными глазами пожилой мужчина с трёхдневной щетиной. Волосы вдруг как-то сразу поредели, настроение было отвратительное.
– Что я здесь делаю? – спрашивал я зеркало. Оно молчало, но могло бы сказать мне, что этот самый вопрос, только по-французски, задавали ему белошвейки и студенты, прачки и молодые ребята непонятных занятий, медсестрички, почтальоны и другие, быстро сменявшие друг друга обитатели этой квартиры. Этот вопрос задавал много лет тому назад русский поэт, живший здесь некоторое время.
Он встал у зеркала, спросил: «Что я здесь делаю?» – и выстрелил себе в висок.
Хозяйка квартиры этот факт, правда, всячески скрывала, чтобы не потерять клиентов.
И мне зеркало не ответило. Я плотнее закутался пледом, подошёл к окну. Из носа текло. «Жениться мне надо, вот что», – подумал я, глядя, как в соседнем доме накрывают на стол. Вечерело. Я зажёг настольную лампу и вдруг неожиданно сел за стол, довольно расшатанный моими предшественниками и предшественницами, равно, кстати, как и диван-кровать, так называемый клик-клак, достал черновики каких-то французских бумаг и вдруг начал писать.
Я начал писать рассказы, и так неожиданно и сразу, что первые капли из носа падали прямо на страницы ценнейших для меня произведений. Вот так это и произошло: неожиданно и сразу.
Я решил писать только то, что ясно и реально представлял. А представлял я сейчас, в эту промозглую зимнюю ночь в центре Парижа, занесённый снегом дом в посёлке Абрамцево. И из окна – розовый свет. Розовый – это от абажура. И сугроб снега у окна был немного голубым и немного розовым – это луна и абажур. А раз абажур, то обязательно круглый стол. И на столе – небольшой самовар. А если самовар, то обязательно небольшие вазочки, где и земляничное, и клубничное, и крыжовник – все этого лета, да сваренные по особому рецепту. И чашки белые с голубым с золотым ободком, и уж блюдца все тоже с ободком золотым. А на донышке – знак: «РСФСР Народный Комиссариат Местной Промышленности. Ст. Вербилки». И ещё должны быть над столом две женские руки, не полные, но и не худые (худые женские руки – это или тайная неврастения или просто скверный характер), и чтобы чашка с чаем на блюдце, вам предлагаемая, слегка подрагивала. Это о том говорит, что хозяйка стола (а кто же ещё за круглым столом чай разливает) слегка волнуется. Ну как же. Всё-таки вечер. Зима. Абажур с розовым светом. Потрескивает деревянный дом. Нет, конечно, она, эта прелестная и нежная, уже не в молодости, а просто в некотором возрасте, и, конечно, она должна волноваться. А как же иначе.
Я снова подошёл к окну. Насморк не унимался, оставляя следы на моих литературных творениях.
– Нет, надо жениться, – опять невпопад и неизвестно почему подумал я.
Но можно представить и описать и другую картину. Я ведь начал писать рассказы для своих троих соседей по даче, с которыми вот уже шесть или семь лет коротаю зимние и летние субботние вечера. А картина эта не менее привлекательна и романтична. Стол у соседа тоже круглый. Камин даёт небольшое тепло, но жара нет. На столе – нет, не газета, как вы, читатель, вероятно, ожидаете. На столе и тарелки, и вилки, и ножи – всё как у людей. И ещё на тарелках нарезаны сало с розовой прожилкой, луковица, три дольки чеснока, колбаса телячья и немного сырокопчёной. И только что принесли большую скворчащую сковородку с жареной картошкой. И кастрюльку – в ней сардельки местного, Сергиево-Посадского, производства. Дачники считают, что местные – наилучшие, и покупают только их. Как им объяснить, что содержание сарделек – крахмал, краска, ароматизаторы и наполнители (мяса в сардельках, естественно, никакого быть не может) – везде одинаково и то, что Сергиево-Посадские лучше «Микояновских» – глубокое заблуждение наше, дорогой читатель.
А сардельки сварены, по рецепту одного из соседей, в томатном соусе с горчицей. Это – что-то! И, конечно, венчает этот стол, да, она, кристалловская 0,75 с чёрной головкой. Тот, кого я в рассказах прозвал «Водилой» или «Бульдозером», просто другого-то не пьёт, а молча и, я бы сказал, гневно выливает или на улицу или в раковину Потом ещё долго у крыльца стоит интригующий запах.
Но и это не всё. Да, знаю, знаю, спрятана в шкафу чуть начатая бутылочка 0,5 л «Зубровки» цвета неопределённого, иногда даже, простите, и мочу напоминающего. Но и только. Вкус – вполне «Зубровки».
И на подоконнике, в открытую, две-три бутылки пива, в основном «Балтика». Это для окончательного полирования посиделок, как обычно говорит другой сосед, тот, которого я назвал «Князь Арсен».
Ну а уж сушки, лимон, чай изумительной заварки и мёд – обязательный финал этого отдыха моих соседей. К столу их всегда подаёт тот, кого я назвал «Профессор». Да и я, нечего отмежёвываться, отнюдь не всегда был сторонним наблюдателем всего этого разврата, нет, не всегда.
Вот и стал я писать рассказики про моих друзей и только для них. Но сразу же процесс поведения друзей стал неуправляем. Друзья тут же вышли из-под контроля и стали пребывать, находиться, попадать в такие ситуации, которые я и в страшном сне придумать не мог. Когда я, проснувшись поздненько в моём мансардном Париже и выпив кофий с черствым, каменным багетом, начинал читать то, что написал за ночь, моему изумлению пределов не было. И ежели бы не сличение почерка – клянусь, читатель, я бы точно отказался от написанного. Такое написать я не мог.
Но, увы, факт был на бумаге. Процесс пошёл. А это значит, что меня поразила болезнь. Знай, дорогой читатель, что даже самая бездарная, посредственная литература – это гораздо хуже каннабиса и других наркотиков. Ибо она разрушает не только организм, но и душу.
И вот я уже нашёл девочку, которая мне всё это набирает на компьютере и робко спрашивает:
– Что, месье, эти люди правда существуют?
И я, конечно, ей с гордостью отвечаю:
– Конечно, Ниночка, и не дай Бог тебе попасть в их лапы. Пределу растления нет у них меры.
После этих слов Ниночка долго сидит молча, о чём-то мечтательно вздыхает. Может, она просто хочет оказаться зимой в Абрамцеве. Кто знает их, этих женщин!
А дальше я даю эти рассказики читать своим парижским друзьям. И вот оно! Моё падение свершилось окончательно! То один, то другой говорит мне, что рассказики нравятся. Что у них есть будущее. Что продолжать необходимо, глядишь, к девяноста годам тебя и напечатают. О, тщеславие! Ох, соблазны! Искушение! Грехи наши, Господи!
«Кончилось это тем, чем и должно было кончиться», – как говорила мне одна знакомая девушка Оля по случаю своего падения. И я сдал свои творения в издательство «X», а через месяц издательство предложило мне договор, делая при переговорах основной упор на стоимостное содержание моего творчества. Нет, не знали они, что в душе я кричал: «Да ладно, хоть бесплатно, но только пусть, пусть это будет напечатано. Пусть это будет пахнуть типографской краской, и я Ниночке, с её родинкой, могу подарить экземпляр. И надпись сделаю». И многое другое я вообразил себе. Вот, например, что Войнович вдруг позвонит и скажет: «Знаешь, старик, совсем неплохо».
Марк Яковлевич Казарновский
В книгу вошли рассказы, написанные Марком Казарновским в начале 2000-х годов. Автор писал для своих друзей, с которыми коротал вечера в посёлке Абрамцево во времена перестройки и развала СССР.
Для Марка Казарновского подмосковное Абрамцево – это некое государство, живущее по своим законам и очень похожее на Россию конца прошлого и начала нынешнего века. Все рассказы имеют реальную основу.
Поступки героев гиперболизированы, но отражают характеры прототипов.
Марк Казарновский
Абрамцевские истории
Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи
Тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый,
И я упаду, побежденный своею победой,
И ткнусь головою, как в пристань, в колени твои,
Когда я вернусь… А когда я вернусь?
Александр Галич
© Казарновский М.Я., 2024
© Оформление. Издательство «У Никитских ворот», 2024
От автора
Несколько слов о героях этой книги и их прототипах
Истории про абрамцевских обитателей я писал, коротая вечера в посёлке Абрамцево под Москвой в конце прошлого века. В этих рассказах многое будет непонятно тем, кто не жил в России в девяностые годы двадцатого века и тем более не был знаком с прототипами моих героев.
Поэтому я считаю необходимым немного рассказать о людях, с которыми я дружил в те годы и которые в моих рассказах оказались в необычных, часто абсурдных ситуациях. Как мне кажется, вся эта фантасмагория вполне могла произойти с ними в реальной жизни, учитывая их темпераменты, взгляды на жизнь и душевный настрой.
Начну с тех времен, когда мы с женой решили «снять дачу» в деревне Глебово, что недалеко от всем известной усадьбы «Абрамцево» и одноимённого дачного посёлка, где проживали и до сих пор проживают творческие люди – художники, литераторы, известные актёры, а также народ попроще, издавна живший в этих чудесных краях с родниками, вековыми дубами, живописной речкой Воря ещё до того, как здесь поселилась интеллектуальная элита. У коренных обитателей Абрамцева дома были поскромнее, да и территории поменьше, но достаточно обширные. Абрамцево окружали деревни с избами-пятистенками и небольшими наделами земли, на которых хозяева умудрялись выращивать овощи, чтобы хватило на всю зиму, да ещё и скот держать.
В такой вот деревеньке в километре от Абрамцева в самом начале шестидесятых годов доярка Лида Батракова сдала нам веранду и комнату в летнем домике, куда мы и вселились.
Стали обзаводиться знакомыми. Оказалось, что в Абрамцеве, недалеко от нашей деревеньки, живут друзья наших хороших знакомых – Ира-переводчица и её муж – оператор Саша Ревазов, а напротив их дома – известный автогонщик Владимир Нейман. Их связывает крепкая дружба с Анатолием Авраамовичем Павельевым, доктором технических наук и большим знатоком поэзии Пушкина.
Забегая вперёд, скажу, что через несколько лет я стал соседом Анатолия Авраамовича. Вот как всё в жизни связано!
А пока герои моих будущих рассказов жили в Абрамцеве, а я неподалеку – в Глебово.
Росла дочь. Неожиданно появился зять и увёз её очень далеко. Одно поколение домашних животных сменилось другим.
И наконец я построил свой Дом. В Абрамцеве. Строил быстро. Постоянно что-то изменял в планировке. Перестраивал. Получилось здорово.
В моём абрамцевском доме всегда было тепло и шумно. Приходили соседи, друзья. Дочка подбрасывала нам на каникулы старших сыновей, в такие моменты на помощь моей жене Эле сразу же из Москвы приезжала Оля – давний и верный друг семьи. Часто заглядывали одноклассница Неймана Наташа Надтел и техник-умелец Евгений Швец.
И конечно же – вечерние посиделки с Ревазовым, Нейманом и Павельевым. Выпито было много.
Так и родились «Абрамцевские истории».
Когда приходит успех, или Сон в зимнюю ночь
В мансардной квартирке на улице Мари-Роз, дом 17, которую я снимал в Париже уже второй год, было холодно и темно. Холодно, потому что я экономил электроэнергию, обогревающую это жилище, а темно, потому что в этой квартирке было всегда темно. Даже если я включал все светильники. Или не все – разницы не было, было темно. На улице шёл дождь, была зима, и Париж из розового весной, тёмно-зелёного летом и красного – осенью, теперь выглядел серым, нахохлившимся и промокшим, как голуби, галки и прочие птицы, живущие рядом с моим мансардным окном. А может быть, это мне всё казалось. У меня был насморк, драло немилосердно горло; из зеркала на меня глядел воспалёнными красными глазами пожилой мужчина с трёхдневной щетиной. Волосы вдруг как-то сразу поредели, настроение было отвратительное.
– Что я здесь делаю? – спрашивал я зеркало. Оно молчало, но могло бы сказать мне, что этот самый вопрос, только по-французски, задавали ему белошвейки и студенты, прачки и молодые ребята непонятных занятий, медсестрички, почтальоны и другие, быстро сменявшие друг друга обитатели этой квартиры. Этот вопрос задавал много лет тому назад русский поэт, живший здесь некоторое время.
Он встал у зеркала, спросил: «Что я здесь делаю?» – и выстрелил себе в висок.
Хозяйка квартиры этот факт, правда, всячески скрывала, чтобы не потерять клиентов.
И мне зеркало не ответило. Я плотнее закутался пледом, подошёл к окну. Из носа текло. «Жениться мне надо, вот что», – подумал я, глядя, как в соседнем доме накрывают на стол. Вечерело. Я зажёг настольную лампу и вдруг неожиданно сел за стол, довольно расшатанный моими предшественниками и предшественницами, равно, кстати, как и диван-кровать, так называемый клик-клак, достал черновики каких-то французских бумаг и вдруг начал писать.
Я начал писать рассказы, и так неожиданно и сразу, что первые капли из носа падали прямо на страницы ценнейших для меня произведений. Вот так это и произошло: неожиданно и сразу.
Я решил писать только то, что ясно и реально представлял. А представлял я сейчас, в эту промозглую зимнюю ночь в центре Парижа, занесённый снегом дом в посёлке Абрамцево. И из окна – розовый свет. Розовый – это от абажура. И сугроб снега у окна был немного голубым и немного розовым – это луна и абажур. А раз абажур, то обязательно круглый стол. И на столе – небольшой самовар. А если самовар, то обязательно небольшие вазочки, где и земляничное, и клубничное, и крыжовник – все этого лета, да сваренные по особому рецепту. И чашки белые с голубым с золотым ободком, и уж блюдца все тоже с ободком золотым. А на донышке – знак: «РСФСР Народный Комиссариат Местной Промышленности. Ст. Вербилки». И ещё должны быть над столом две женские руки, не полные, но и не худые (худые женские руки – это или тайная неврастения или просто скверный характер), и чтобы чашка с чаем на блюдце, вам предлагаемая, слегка подрагивала. Это о том говорит, что хозяйка стола (а кто же ещё за круглым столом чай разливает) слегка волнуется. Ну как же. Всё-таки вечер. Зима. Абажур с розовым светом. Потрескивает деревянный дом. Нет, конечно, она, эта прелестная и нежная, уже не в молодости, а просто в некотором возрасте, и, конечно, она должна волноваться. А как же иначе.
Я снова подошёл к окну. Насморк не унимался, оставляя следы на моих литературных творениях.
– Нет, надо жениться, – опять невпопад и неизвестно почему подумал я.
Но можно представить и описать и другую картину. Я ведь начал писать рассказы для своих троих соседей по даче, с которыми вот уже шесть или семь лет коротаю зимние и летние субботние вечера. А картина эта не менее привлекательна и романтична. Стол у соседа тоже круглый. Камин даёт небольшое тепло, но жара нет. На столе – нет, не газета, как вы, читатель, вероятно, ожидаете. На столе и тарелки, и вилки, и ножи – всё как у людей. И ещё на тарелках нарезаны сало с розовой прожилкой, луковица, три дольки чеснока, колбаса телячья и немного сырокопчёной. И только что принесли большую скворчащую сковородку с жареной картошкой. И кастрюльку – в ней сардельки местного, Сергиево-Посадского, производства. Дачники считают, что местные – наилучшие, и покупают только их. Как им объяснить, что содержание сарделек – крахмал, краска, ароматизаторы и наполнители (мяса в сардельках, естественно, никакого быть не может) – везде одинаково и то, что Сергиево-Посадские лучше «Микояновских» – глубокое заблуждение наше, дорогой читатель.
А сардельки сварены, по рецепту одного из соседей, в томатном соусе с горчицей. Это – что-то! И, конечно, венчает этот стол, да, она, кристалловская 0,75 с чёрной головкой. Тот, кого я в рассказах прозвал «Водилой» или «Бульдозером», просто другого-то не пьёт, а молча и, я бы сказал, гневно выливает или на улицу или в раковину Потом ещё долго у крыльца стоит интригующий запах.
Но и это не всё. Да, знаю, знаю, спрятана в шкафу чуть начатая бутылочка 0,5 л «Зубровки» цвета неопределённого, иногда даже, простите, и мочу напоминающего. Но и только. Вкус – вполне «Зубровки».
И на подоконнике, в открытую, две-три бутылки пива, в основном «Балтика». Это для окончательного полирования посиделок, как обычно говорит другой сосед, тот, которого я назвал «Князь Арсен».
Ну а уж сушки, лимон, чай изумительной заварки и мёд – обязательный финал этого отдыха моих соседей. К столу их всегда подаёт тот, кого я назвал «Профессор». Да и я, нечего отмежёвываться, отнюдь не всегда был сторонним наблюдателем всего этого разврата, нет, не всегда.
Вот и стал я писать рассказики про моих друзей и только для них. Но сразу же процесс поведения друзей стал неуправляем. Друзья тут же вышли из-под контроля и стали пребывать, находиться, попадать в такие ситуации, которые я и в страшном сне придумать не мог. Когда я, проснувшись поздненько в моём мансардном Париже и выпив кофий с черствым, каменным багетом, начинал читать то, что написал за ночь, моему изумлению пределов не было. И ежели бы не сличение почерка – клянусь, читатель, я бы точно отказался от написанного. Такое написать я не мог.
Но, увы, факт был на бумаге. Процесс пошёл. А это значит, что меня поразила болезнь. Знай, дорогой читатель, что даже самая бездарная, посредственная литература – это гораздо хуже каннабиса и других наркотиков. Ибо она разрушает не только организм, но и душу.
И вот я уже нашёл девочку, которая мне всё это набирает на компьютере и робко спрашивает:
– Что, месье, эти люди правда существуют?
И я, конечно, ей с гордостью отвечаю:
– Конечно, Ниночка, и не дай Бог тебе попасть в их лапы. Пределу растления нет у них меры.
После этих слов Ниночка долго сидит молча, о чём-то мечтательно вздыхает. Может, она просто хочет оказаться зимой в Абрамцеве. Кто знает их, этих женщин!
А дальше я даю эти рассказики читать своим парижским друзьям. И вот оно! Моё падение свершилось окончательно! То один, то другой говорит мне, что рассказики нравятся. Что у них есть будущее. Что продолжать необходимо, глядишь, к девяноста годам тебя и напечатают. О, тщеславие! Ох, соблазны! Искушение! Грехи наши, Господи!
«Кончилось это тем, чем и должно было кончиться», – как говорила мне одна знакомая девушка Оля по случаю своего падения. И я сдал свои творения в издательство «X», а через месяц издательство предложило мне договор, делая при переговорах основной упор на стоимостное содержание моего творчества. Нет, не знали они, что в душе я кричал: «Да ладно, хоть бесплатно, но только пусть, пусть это будет напечатано. Пусть это будет пахнуть типографской краской, и я Ниночке, с её родинкой, могу подарить экземпляр. И надпись сделаю». И многое другое я вообразил себе. Вот, например, что Войнович вдруг позвонит и скажет: «Знаешь, старик, совсем неплохо».