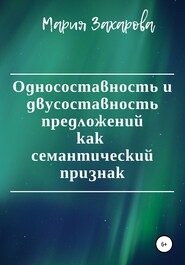По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Счастье в огне
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сержант обернулся. На вид ему было лет девятнадцать– двадцать. По лицу его струйками стекал пот, который он вытирал пыльным рукавом гимнастерки, отчего на щеках образовались черные полосы, и это придавало ему совсем мальчишеский вид.
– Чуть старше меня, – подумала Варя. А в глазах окружавших ее женщин заплескалась тоска. Сержант как-то нерешительно вскинул руку к виску.
– Сержант Сверчков! Раненых разгружаем! – четко, по-военному и потом с какой-то детской обидой в голосе, – сами не видите что ли?
– Да вижу, – главврач мгновение помолчал, молчали и все вокруг, ожидая результата разговора, – но видите-ли в чем дело… Госпиталь сегодня эвакуируется, и мы не можем принять новых раненых. Многим необходима немедленная помощь, а мы через несколько часов должны грузиться – мы даже обработать их не успеем.
– У меня приказ сопровождать до Сталинграда, до ближайшего госпиталя, – в голосе сержанта слышались и растерянность, и желание настоять на своем.
– Но почему вы не отправляете их на тот берег? У вас машины, везите к переправе.
– Да не могу я. Говорю же, приказ – до Сталинграда, – теперь растерянность преобладала. Зато в голосе главврача зазвучал металл.
– Сержант! Что происходит?
Юноша молчал.
– Сержант!
– Товарищ врач, ну поймите, мне надо возвращаться, скорее возвращаться.
– Возвращаться куда?
Сержант опустил голову и молчал. Главврач понизил голос:
– Раненые откуда, я вас спрашиваю?
Сержант, подняв голову, встретился с ним взглядом и произнес так, что его расслышали только несколько человек:
– Из-под Калача…
Василий Петрович резко повернулся к сопровождавшим его людям:
– Разгружайте!
Никто не двигался.
– Вы что, не слышите? Санитаров сюда. Начинайте разгрузку раненых. – В голосе главврача послышался металл. В таких случаях никто не решался ему возражать, но сейчас из толпы медсестер послышался чей-то голос:
– Но… Эвакуация… Как же?
– Разгружайте! – и главврач направился к подъезду, на ходу отдавая указания по поводу тех, кого уже успел осмотреть, – Перевязку! В процедурный! Этого в операционную, срочно.
Больше никто не спорил, во дворе закипела привычная работа по разгрузке и осмотру раненых. Грузовики спешно покидали двор.
***
Мест, с учетом прибывших, в госпитале не хватало, спешно освобождали дополнительные помещения, раненые заполнили все коридоры. В процедурных вскрывали тщательно упакованные за ночь боксы с медикаментами. Персонал сбивался с ног.
Варвара заканчивала перевязывать очередного раненого, когда Василий Петрович, направлявшийся в операционную, бросил на ходу:
– Варвара, закончишь, сразу отправляйся домой – Ольга Евгеньевна немедленно должна прийти, – и, уже обернувшись, – а ты… попробуй поспать пару часов.
***
Когда Варя вышла на улицу, то после госпитального шума и суеты, всегда сопутствующих поступлению раненых, она показалась Варе пустынной и какой-то, уж очень тихой. Безумно хотелось спать, или хотя бы присесть – девушка была на ногах почти двое суток. Но вдруг какое-то смутное беспокойство овладело ею. Она прибавила шагу.
***
Варвара шла, потом почти бежала. Улица казалась вымершей. Даже дома как будто съежились, пытаясь спрятаться за кустами сирени. Смутное чувство страха заставляло ее двигаться все быстрее. Воздух, густой и плотный, как вата, был заполнен какой-то неестественной тишиной, которая окутывала все тело, вползала в глаза, в уши, даже в кончики ногтей.
Улица сделала плавный поворот и Варвара увидела свой дом, до которого оставалось еще метров пятьдесят. Во дворе мать снимала с веревки белье, видимо выстиранное утром и уже успевшее высохнуть под жарким июльским солнцем, а рядом в самодельной песочнице копался Митька, высоко подбрасывая песок лопаткой. Варвара могла уже даже разглядеть золотой дождь песчинок, разлетающихся в разные стороны. При виде матери и такой знакомой, домашней картины у Вари немного отлегло от сердца, и она невольно замедлила свои шаги. А потом скорее почувствовала, чем услышала, жужжание шмеля, только оно было какое-то тяжелое, металлическое – Варя отметила это каким-то краем сознания. И потом нарастающий вой, сопровождаемый тонким, вибрирующим свистом. Черная точка над головой. Дальше все как в замедленной киносъемке. Варины глаза зафиксировали каждый отдельный кадр, а сознание отказывалось воспринимать происходящее. Черная точка как-то очень быстро увеличилась, стала похожа сначала на черную птицу, потом на огромную рыбу со зловещим хвостом. А потом ужасный грохот и огненный гриб на том самом месте, где мать снимала белье, а Митька устраивал песочный дождь. А потом «грибы» стали вырастать то тут, то там, но грохота уже не было, или Варя его просто не слышала, она просто стояла и смотрела, не в силах сдвинуться с места. Время остановилось, секунды превратились в часы, или часы в секунды. Варя слышала, или, скорее, чувствовала только удары своего сердца, мерно и гулко отдававшиеся в груди, нараставшие и готовые, заполнив весь ее организм своим стуком, вырваться наружу и взлететь куда-то высоко, туда, откуда продолжали опускаться черные птицы.
Вдруг боковым зрением Варвара заметила тень, метнувшуюся в ее направлении, почувствовала резкий толчок, а потом резкую боль в спине, ободранной о штукатурку дома, к которому она отлетела, потом тяжесть навалившегося на нее тела. В уши немедленно ворвался скрежет, грохот, свист, вой, крик, а затрепетавшие ноздри наполнились запахом дыма, гари, и еще чего-то, напоминавшего смрад подгоревшего на сковородке мяса.
И тут тело Вари ожило и, движимое инстинктом, забилось, затрепыхалось, порываясь вскочить и бежать домой… домой… домой… А в сознании жила только одна мысль: «Мама… Митька… мама… мама… мама… Митька! МИТЬКАа-а-а-а…». Но тяжесть придавившего ее тела не давала ей встать. Варя брыкалась, толкалась, попробовала пустить в дело ногти, но ее руки оказались прижатыми к земле по обе стороны ее головы. И тогда она открыла глаза и встретилась с серым взглядом, отливающим сталью – тот самый военный, привлекший ее внимание на площади. Но узнавание не только не остановило ее порыв, а, казалось, только придало ей сил. Она еще раз неистово рванулась, пытаясь освободиться, и тут на ее лицо обрушилась пощечина, одна, другая, резкая боль заставила ее на мгновенье замереть. Этого оказалось достаточно, чтобы услышать то, что кричал военный. «Дура, малолетняя идиотка! Тебе что, жить надоело?!». И тут мысль, сверлившая мозг, впивающаяся в него ржавым гвоздем, вдруг обрела звучание, и вылетела из Вариного горла: «Мама-а-а-а…». Сила, придавившая ее к земле и удерживающая на месте, не исчезла. И вот тогда брызнули слезы, стекающие по подбородку и оставляющие прозрачные дорожки на запачканных, пропитавшихся дымом и копотью Вариных щеках, а тело ее забилось в конвульсиях.
– Пустите, слышите, пустите меня. Там мама. Там моя мама. И Митька, слышите вы, Митька, ему же только три года, три года. Вы слышите, ему три года. Мама-а-а!
И вдруг все стихло. Стихло так же внезапно, как и началось. На мгновение возникло ощущение ночного кошмара, прервавшегося внезапным пробуждением. Варя почувствовала, что тяжесть, накрывавшая ее тело, исчезла, и она свободна. Вот только встать сил не было. Не было уже сил и на то, чтобы кричать, вообще ни на что. Хотелось лежать всегда и, главное, не думать ни о чем – сил не было даже на то, чтобы думать. Но грубая мужская ладонь обхватила ее локоть и рывком подняла Варю на ноги. Девушка пошатнулась, обвела взглядом улицу вокруг себя – из-за клубившегося дыма и не осевшей еще пыли почти ничего не было видно – и вдруг бросилась бежать. Ноги плохо слушались ее, глаза слезились из-за разъедающего их дыма, но она бежала. Бежала домой.
Казалось, прошла вечность, прежде чем Варя достигла знакомой калитки. Вот только калитки не было. И дома не было. Вернее, почти не было. Варин взгляд уперся в две оставшиеся стены с выбитыми окнами и раскачивающейся дверью. Дверью в ее комнату. Однако и комнаты уже не было, лишь обуглившаяся груда вещей, когда-то бывших ее вещами. И только сиреневый куст тихо шелестел запыленными листьями, как бы выражая скорбь и сожаление о доме, возле которого вырос и который считал своим старшим братом, надежным и незыблемым, и о людях, живших в этом доме. Людях! Варя перевела взгляд на то место, где раньше был двор, и где всего несколько минут назад, или несколько часов? или несколько дней? мать снимала белье. На этом месте была теперь глубокая воронка, на дне которой что-то белело. Сорочка, Варина сорочка, которую она позавчера бросила в корзину для грязного белья – какая-то неестественно-белая на фоне земли. А слева, у крыльца, нет, теперь уже у бывшего крыльца, виднелась сломанная пополам лопатка, которая еще совсем недавно была орудием для создания песочного дождя.
Девушка упала на колени, из ее горла вырвался то ли всхлип, то ли вздох. Потом легла на землю, пахнущую дымом. Слез больше не было, и воздуха не было, и жизни тоже больше не было. Только воронка с белой сорочкой на дне, и две стены с качающейся дверью, и лопатка, которая никогда больше не будет рождать песочный дождь, и жуткий, жуткий, жуткий запах дыма.
Но спустя некоторое время появилось что-то еще. Это было ощущение чьего-то присутствия за спиной. Причем ощущение было каким-то, надежным что ли. Потом сильные руки на плечах, поднявшие ее с земли и прочно удерживающие в вертикальном положении, на миг отпустившие ее, а затем вернувшиеся и накрывшие ее плащ-палаткой, сохранявшей запах мужского пота и табака. Только сейчас Варвара поняла, что платье ее истерзано так же, как и она сама, и в прорехи выглядывает нижнее белье. Но теперь плащ скрывал ее тело, и это давало ощущение защищенности – от озноба, сотрясавшего ее тело, и от внешнего мира с его ужасами, и даже от преследовавшего ее запах гари. Варя развернулась и уткнулась носом в крепкое мужское плечо. Она не знала, сколько они так простояли, но, почувствовав на подбородке шершавые мужские пальцы, подняла глаза. И снова стальной взгляд, в котором теперь было что-то еще, какие-то теплые нотки. Глядя ей прямо в глаза и не давая отвести взгляда, мужчина начал говорить, и в его голосе был тот же металл, что и в глазах.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: