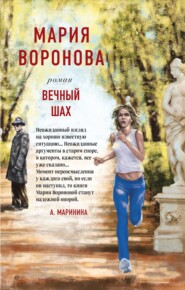По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вечно ты
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Вечно ты
Мария Владимировна Воронова
Судьба не по рецепту. Романы М. Вороновой
Как бы уверенно человек ни управлял своей жизнью, судьба порой делает слишком резкие повороты. В дружной семье Корсунских все было распланировано и роли дочерей распределены: умница и красавица Вера сделает блестящую партию генералу, а скромная Люда останется домашней девочкой, родительской отрадой. Только предназначенный для Веры жених внезапно выбирает Люду…
Мария Воронова
Вечно ты
Я прихожу на кладбище каждый день. Кладу свежие цветы взамен увядших, которые аккуратно выдергиваю из венков и букетов, густо покрывающих могильный холмик, поправляю траурные ленточки и пытаюсь убедить себя, будто это что-то значит. Не получается. Не с чего даже устать, чтобы хоть через мышечную боль и одышку прочувствовать смысл своих ежедневных походов. Может быть, этот смысл откроется мне позже, когда я поставлю настоящий памятник и разведу цветник?
Выбросив мусор в ржавый жестяной бак на перекрестке дорожек, возвращаюсь к могиле и сажусь на чужую скамейку, мысленно извиняясь перед ее владельцами, живыми и мертвыми. Лавочка шаткая, из двух бревнышек и наспех приколоченной к ним доски. От времени она завалилась вбок и стала похожа на военный самолет перед разбегом. И дерево с годами сделалось таким же серым, как военный самолет. В общем, конструкция ненадежная, но я все-таки сажусь. Плохо, если сломаю чужую вещь, но, с другой стороны, избавлю хозяев от необходимости падать с лавки.
Смотрю в небо, пытаясь помолиться или разглядеть там какой-то знак, но ничего не вижу, только скупое и бледное ленинградское солнце осторожно гладит меня по щекам.
Наверное, это плохо, что я ничего не чувствую возле его могилы. Никак не получается осознать, что этот холмик, украшенный цветами, лапником и траурными лентами, – место его последнего упокоения.
Зачем прихожу сюда, сама не знаю. Если загробная жизнь все-таки существует, то он думает обо мне всегда, а не только когда я навещаю его могилу. С глаз долой, из сердца вон – это не наш случай.
Нам приходилось расставаться, и расставаться надолго, судьба раскидывала нас по разным сторонам света, между нами бывали тысячи километров, а когда он уходил в автономку, то и многие метры тяжелой морской воды, но даже сквозь эти преграды мы чувствовали друг друга, были далеко, но все-таки рядом.
А теперь только пустота. Полтора метра мокрой серой глины разделяют нас надежнее, чем любые другие расстояния.
Не чувствую я его присутствия в этом живописном уголке кладбища, которое сдержанный ленинградский май уже раскрасил своей акварелью. На старом обрубке какого-то дерева пробиваются робкие побеги с новорожденными клейкими листочками. Жизнь побеждает, и я, наверное, должна утешаться, глядя на эту незамысловатую аллегорию. Только мне от этой правды жизни ни горячо ни холодно, никак.
Поправляю загнувшуюся ленточку, пытаясь убедить себя, что это как будто я подтыкаю ему одеяло, но не нахожу ничего общего между этими действиями. Вспоминаю свекровь, которая каждую осень просила его укутывать лапником могилу своего мужа, мы специально брали для этого отпуск с захватом сентября. Тогда мне в голову не приходило спросить ее, правда ли ей становится легче и спокойнее на душе от этого ритуала. Смерть, могилы, это для стариков, а мы с мужем были молоды и собирались оставаться таковыми вечно.
В этом удаленном уголке кладбища нет старинных памятников, как возле полуразрушенной церквушки. Вот там можно увидеть много интересного. На уходящих в землю надгробиях проступают сквозь мох трогательные эпитафии с ятями и твердыми знаками, скорбящие мраморные ангелы мирно соседствуют с жизнеутверждающей статуей ответственного партийного работника. Скульптор почему-то изваял его со свернутой в трубочку газетой в руке, так что не совсем понятно, собирается товарищ произносить речь или лупить кота за испорченные тапки. Образ интригует, и я всегда улыбаюсь, проходя мимо него, и думаю, каким он был при жизни. Что делать, когда теряешь единственного близкого человека, поневоле обзаводишься потусторонними приятелями.
Среди наших соседей великих людей, похоже, нет. Нас окружают кресты из серого бетона с эмалевыми фотографиями или с пустым овальным следом от них и скромные мраморные стелы. Оградки стоят впритык, отчего с высоты птичьего полета наш участок, наверное, похож на шаль, связанную из бабушкиных квадратиков. Кое-где виднеются жестяные пирамидки с красными звездами, правда, от долгих лет в суровых ленинградских туманах цвет скорее подразумевается, чем присутствует. Такие памятники называются обелисками, и, судя по ржавчине, последний поставили лет двадцать назад или еще раньше, а сейчас в моде прямоугольные надгробья, даже для тех, кто погиб при исполнении воинского долга. В перспективе это удобно, потом сын на нем подпишет мое имя, да и все. Как у соседей слева.
Мне немного неловко за свой суетный интерес, что я разглядываю памятники, как чужие сумочки и туфли, и что хочу сделать могилу красивой, хоть для мужа от этого ничего не изменится. Он так и останется мертвым.
Оглядываюсь и замечаю посетительницу, тоненькую девушку в старомодном платье с отложным воротничком. Кажется, я уже встречала ее возле свежей могилы, которая появилась здесь вскоре после нашей. После… Помню, когда я увидела среди серых надгробий пестрый нарядный холмик, понадобилось некоторое усилие осознать, что жизнь идет своим чередом, люди продолжают рождаться и умирать даже после того, как его не стало.
Девушка стоит возле могилы, неловко сутулясь и опустив глаза, видно, еще не обжилась в своем горе, а я разглядываю ее, как новенькую в классе. Русые волосы затянуты в хвост, открывая миру легкую изящную лопоухость, аккуратный носик чуть вздернут, а губы тонкие, но прихотливого рисунка. Не идеальная красота, но из тех лиц, на которые смотришь с удовольствием. Наверное, девушка сильно скорбит, и от этого кажется невзрачной.
Прикинув, как бы она выглядела с косметикой, прической и в модной одежде, я начинаю думать, кем она приходится нашему соседу. Задача непростая, тем более что я даже не знаю, кто там похоронен, мужчина или женщина, старый или молодой. Одно можно сказать почти со стопроцентной уверенностью – отношения были близкие, потому что если ты не горюешь по усопшему, то вечером среды найдешь себе более интересное занятие, чем поход на кладбище. Да и если горюешь… Я, например, хожу не за утешением, а просто потому, что не знаю, куда еще можно себя деть. Муж говорил, что всегда надо что-то делать и куда-то идти, особенно если делать нечего, а идти некуда. Вот я и иду. Но я уже пожилая, переделала почти все дела, которые положены женщинам в земной юдоли, а у девушки их наверняка еще непочатый край. Много есть для юности полезных занятий кроме как стоять в скорби и растерянности на краю могилы.
В выходные дни я прихожу по утрам, как все нормальные люди, и иногда встречаю возле этой могилки высокого мужчину с аристократически вытянутым лицом и красивой волной седых волос и женщину, которая в пятидесятые могла бы быть кинозвездой. Сразу понятно, что это муж и жена. Их сопровождает яркая молодая женщина, очевидно, дочь, которой повезло взять у родителей лучшее – отцовскую благородную стать и материнское изящество. Когда я здороваюсь с ними, они отвечают милостивым кивком, в котором благосклонность и запрет на дальнейшее общение сочетаются с аптекарской точностью. Уж не знаю, врожденное ли это умение или достигается годами тренировок, но в любом случае я не в обиде. Понятно, что их настоящее место там, возле часовни, среди ангелов и старинных мраморных плит, и только по злой прихоти судьбы они оказались на нашей пролетарской непрестижной окраине. И чернь в моем лице должна это понимать. Я и понимаю, тем более что видок у меня в последнее время затрапезный, так сразу и не скажешь, что высшее образование. Сначала переезд, потом ремонт, в общем, давненько мы не обновляли наш гардероб. Все мечтали, как наведем красоту и заживем… А получилось, что зажила я одна, интересно, значит ли это, что мечта сбылась наполовину? Короче говоря, и правда надо побродить по магазинам, чтобы не принимали за дремучую селянку, у которой всегда наготове шкалик за пазухой, чтобы помянуть прямо на могилке.
Девушка все стоит, неестественно сложив руки, а я все разглядываю ее, гадая, кем же они все друг другу приходятся, что связывает благородное семейство, девушку и покойника.
Как и наш, их холмик пока безымянный, можно, конечно, подойти поближе, почитать ленты на венках, но любопытство во мне пока еще не побеждает чувство приличия.
Наконец девушка ловит мой взгляд. Я улыбаюсь, она быстро улыбается в ответ и тут же отводит глаза, но я успеваю заметить, как удивительно хороша ее улыбка. На какую-то долю секунды я даже забываю, зачем я здесь.
Хмурясь, наверное, для того, чтобы нейтрализовать неуместную на кладбище улыбку, девушка поправляет венок и уходит, а я остаюсь сидеть, не замечая, как наступают незаметные майские сумерки. Вдруг вспоминаю, как в студенческие годы муж говорил про белые ночи – «очень низкий титр темноты». А потом мы уехали служить далеко от Ленинграда, да и химию подзабыли.
Вокруг становится совсем тихо, кажется, я осталась на кладбище одна из живых. Может быть, уже и ворота закрыли, но ничего страшного, в суровой и неприступной кирпичной стене неподалеку есть дыра, сквозь которую можно пролезть без особого риска получить травму или выставить себя на посмешище. В любой ограде есть тайный лаз, кроме той, что разделяет мир живых и мир мертвых.
* * *
Несмотря на сухую и солнечную погоду, туфельки оказались основательно испачканы серой глиной, и дома Люда сразу взялась за щетку, но, как ни старалась, присохшая грязь никак не хотела отходить, только глубже забивалась в швы и в рельеф подошв, придавая туфлям совсем уж затрапезный сиротский вид. Лев бы в обморок упал от такого зрелища, сверкающая чистотой обувь была для него едва ли не главным мерилом добра и зла…
Оттого, что она подумала о Льве в прошедшем времени, по спине пробежал холодок, Люда поежилась. Он жив, и думать надо о нем как о живом, а то, что они больше никогда не увидятся, совсем не важно.
Мятый жестяной тюбик явно был пуст, но Люда все-таки добыла из него пару молекул обувного крема. Так странно, еще год назад она спокойно ходила в чем попало, а теперь выйти из дому в нечищеной обуви для нее так же немыслимо, как в нижнем белье.
Люда торопилась, но все-таки не успела. Мама вышла из комнаты и, взглянув на осыпавшуюся с туфель грязь, сразу поняла, что дочь была на кладбище.
– Как трогательно, – усмехнулась мама, – а нас с отцом когда в гроб загонишь, тоже будешь на могилку ходить? Слезки проливать и умиляться?
Люда молча пошла за веником. Что тут ответишь? «Нет, не буду» и «да, буду» прозвучат одинаково издевательски. Умиляться… Само по себе слово вроде бы хорошее, но мама его всегда произносит так, будто выплевывает, и кажется, будто умиление – одно из самых позорных занятий, которым только может предаваться человек. Что ж, наверное, Люда и правда не имеет права ни на какие чувства, кроме стыда и вины.
Поспешно убрав в прихожей, Люда проскользнула в свою комнату и легла. Скорее бы наступила ночь, а за ней утро. Она быстренько соберется, пока все еще спят, и поедет на работу, а по дороге зайдет в универсам к открытию, наберет продуктов для передачки. Вдруг выбросят что-нибудь дефицитное? Хорошо бы копченую колбасу, но этот калорийный и долго хранящийся продукт бывает только в закрытых распределителях для номенклатуры и редко-редко в продуктовых заказах на предприятиях. Ну и если дружишь с работниками торговли, тоже можешь достать. В прошлой жизни у Льва все это было, но он никогда не пользовался, говорил, что подобные штучки превращают человека в лакея, каковым он категорически отказывается быть. Ну да что теперь об этом думать, официальный доступ к привилегиям закрыт, а прежние товарищи решительно вычеркнули Льва из своей жизни. Будто и не было у них никогда такого друга.
Завтра она купит на Невском шоколадных конфет для калорийности, но Лев мужчина, ему нужно мясо, и сладкое он вообще не любит. На рынке только если найдется что-нибудь подходящее, но там дорого, а денег не жалко, их просто нет. Отсутствуют. Зарплата ассистента кафедры невелика, и большая часть уходит в общий котел, остается как раз передачу собрать, но по магазинным, а не по рыночным ценам. В прежней жизни она попросила бы у родителей, они бы дали без всяких разговоров, но теперь, после всего, что она сделала, об этом не может быть и речи. Убийцам денег не дают.
Люда зажмурилась. Как стыдно, господи… Она должна предаваться угрызениям совести, а вместо этого думает о всяком житейском. Правильно бабушка называла ее холодной и бесчувственной эгоисткой, еще когда для всех остальных она была любимой девочкой. Раскусила внучку раньше других, но все равно любила.
Раньше так просто было жить, набедокуришь – не страшно, главное, осознать, раскаяться и попросить прощения. Рецепт проверенный. А в этот раз она даже осознать не может своей вины, поэтому родители и не прощают, хотя она к ним уже не раз приходила с повинной головой. Которую, по любимому присловью бабушки, меч не сечет.
Дверь скрипнула, приоткрываясь.
– Иди ужинать, – сказала Вера, как выплюнула.
– Спасибо, не хочу.
Вера вошла в комнату:
– Мы не КГБ, а ты не академик Сахаров, чтобы устраивать нам тут голодовки. Поверь, твои демонстрации никого не впечатлят и не заставят относиться к тебе иначе, чем ты заслуживаешь.
– Я просто не хочу есть, Верочка.
– Ты уже достаточно доставила родителям горя и хлопот, чтобы еще заставлять их волноваться о твоем здоровье, – отчеканила сестра, – поэтому изволь встать и выйти к столу.
Вера точно не собиралась возвращаться в столовую одна.
– Идем, – повторила сестра с нажимом, – думаешь, я в восторге оттого, что приходится сидеть с тобой за одним столом? Но я терплю, потерпишь и ты.
* * *
Внезапно меня приглашает пить чай сама Регина Владимировна. Я немного удивлена неожиданной милостью, но беру свою чашку и иду к ней в кабинет.
Регина Владимировна ставит на стол начатую коробку конфет, из которой опытные доктора уже съели самые вкусные, оставив только с пронзительно-белой помадкой, наливает чай и участливо смотрит мне в глаза. Может, искренне, но профессиональный интерес равновероятен.
– Как вы? – спрашивает она мягко. Пожалуй, слишком мягко.
Мария Владимировна Воронова
Судьба не по рецепту. Романы М. Вороновой
Как бы уверенно человек ни управлял своей жизнью, судьба порой делает слишком резкие повороты. В дружной семье Корсунских все было распланировано и роли дочерей распределены: умница и красавица Вера сделает блестящую партию генералу, а скромная Люда останется домашней девочкой, родительской отрадой. Только предназначенный для Веры жених внезапно выбирает Люду…
Мария Воронова
Вечно ты
Я прихожу на кладбище каждый день. Кладу свежие цветы взамен увядших, которые аккуратно выдергиваю из венков и букетов, густо покрывающих могильный холмик, поправляю траурные ленточки и пытаюсь убедить себя, будто это что-то значит. Не получается. Не с чего даже устать, чтобы хоть через мышечную боль и одышку прочувствовать смысл своих ежедневных походов. Может быть, этот смысл откроется мне позже, когда я поставлю настоящий памятник и разведу цветник?
Выбросив мусор в ржавый жестяной бак на перекрестке дорожек, возвращаюсь к могиле и сажусь на чужую скамейку, мысленно извиняясь перед ее владельцами, живыми и мертвыми. Лавочка шаткая, из двух бревнышек и наспех приколоченной к ним доски. От времени она завалилась вбок и стала похожа на военный самолет перед разбегом. И дерево с годами сделалось таким же серым, как военный самолет. В общем, конструкция ненадежная, но я все-таки сажусь. Плохо, если сломаю чужую вещь, но, с другой стороны, избавлю хозяев от необходимости падать с лавки.
Смотрю в небо, пытаясь помолиться или разглядеть там какой-то знак, но ничего не вижу, только скупое и бледное ленинградское солнце осторожно гладит меня по щекам.
Наверное, это плохо, что я ничего не чувствую возле его могилы. Никак не получается осознать, что этот холмик, украшенный цветами, лапником и траурными лентами, – место его последнего упокоения.
Зачем прихожу сюда, сама не знаю. Если загробная жизнь все-таки существует, то он думает обо мне всегда, а не только когда я навещаю его могилу. С глаз долой, из сердца вон – это не наш случай.
Нам приходилось расставаться, и расставаться надолго, судьба раскидывала нас по разным сторонам света, между нами бывали тысячи километров, а когда он уходил в автономку, то и многие метры тяжелой морской воды, но даже сквозь эти преграды мы чувствовали друг друга, были далеко, но все-таки рядом.
А теперь только пустота. Полтора метра мокрой серой глины разделяют нас надежнее, чем любые другие расстояния.
Не чувствую я его присутствия в этом живописном уголке кладбища, которое сдержанный ленинградский май уже раскрасил своей акварелью. На старом обрубке какого-то дерева пробиваются робкие побеги с новорожденными клейкими листочками. Жизнь побеждает, и я, наверное, должна утешаться, глядя на эту незамысловатую аллегорию. Только мне от этой правды жизни ни горячо ни холодно, никак.
Поправляю загнувшуюся ленточку, пытаясь убедить себя, что это как будто я подтыкаю ему одеяло, но не нахожу ничего общего между этими действиями. Вспоминаю свекровь, которая каждую осень просила его укутывать лапником могилу своего мужа, мы специально брали для этого отпуск с захватом сентября. Тогда мне в голову не приходило спросить ее, правда ли ей становится легче и спокойнее на душе от этого ритуала. Смерть, могилы, это для стариков, а мы с мужем были молоды и собирались оставаться таковыми вечно.
В этом удаленном уголке кладбища нет старинных памятников, как возле полуразрушенной церквушки. Вот там можно увидеть много интересного. На уходящих в землю надгробиях проступают сквозь мох трогательные эпитафии с ятями и твердыми знаками, скорбящие мраморные ангелы мирно соседствуют с жизнеутверждающей статуей ответственного партийного работника. Скульптор почему-то изваял его со свернутой в трубочку газетой в руке, так что не совсем понятно, собирается товарищ произносить речь или лупить кота за испорченные тапки. Образ интригует, и я всегда улыбаюсь, проходя мимо него, и думаю, каким он был при жизни. Что делать, когда теряешь единственного близкого человека, поневоле обзаводишься потусторонними приятелями.
Среди наших соседей великих людей, похоже, нет. Нас окружают кресты из серого бетона с эмалевыми фотографиями или с пустым овальным следом от них и скромные мраморные стелы. Оградки стоят впритык, отчего с высоты птичьего полета наш участок, наверное, похож на шаль, связанную из бабушкиных квадратиков. Кое-где виднеются жестяные пирамидки с красными звездами, правда, от долгих лет в суровых ленинградских туманах цвет скорее подразумевается, чем присутствует. Такие памятники называются обелисками, и, судя по ржавчине, последний поставили лет двадцать назад или еще раньше, а сейчас в моде прямоугольные надгробья, даже для тех, кто погиб при исполнении воинского долга. В перспективе это удобно, потом сын на нем подпишет мое имя, да и все. Как у соседей слева.
Мне немного неловко за свой суетный интерес, что я разглядываю памятники, как чужие сумочки и туфли, и что хочу сделать могилу красивой, хоть для мужа от этого ничего не изменится. Он так и останется мертвым.
Оглядываюсь и замечаю посетительницу, тоненькую девушку в старомодном платье с отложным воротничком. Кажется, я уже встречала ее возле свежей могилы, которая появилась здесь вскоре после нашей. После… Помню, когда я увидела среди серых надгробий пестрый нарядный холмик, понадобилось некоторое усилие осознать, что жизнь идет своим чередом, люди продолжают рождаться и умирать даже после того, как его не стало.
Девушка стоит возле могилы, неловко сутулясь и опустив глаза, видно, еще не обжилась в своем горе, а я разглядываю ее, как новенькую в классе. Русые волосы затянуты в хвост, открывая миру легкую изящную лопоухость, аккуратный носик чуть вздернут, а губы тонкие, но прихотливого рисунка. Не идеальная красота, но из тех лиц, на которые смотришь с удовольствием. Наверное, девушка сильно скорбит, и от этого кажется невзрачной.
Прикинув, как бы она выглядела с косметикой, прической и в модной одежде, я начинаю думать, кем она приходится нашему соседу. Задача непростая, тем более что я даже не знаю, кто там похоронен, мужчина или женщина, старый или молодой. Одно можно сказать почти со стопроцентной уверенностью – отношения были близкие, потому что если ты не горюешь по усопшему, то вечером среды найдешь себе более интересное занятие, чем поход на кладбище. Да и если горюешь… Я, например, хожу не за утешением, а просто потому, что не знаю, куда еще можно себя деть. Муж говорил, что всегда надо что-то делать и куда-то идти, особенно если делать нечего, а идти некуда. Вот я и иду. Но я уже пожилая, переделала почти все дела, которые положены женщинам в земной юдоли, а у девушки их наверняка еще непочатый край. Много есть для юности полезных занятий кроме как стоять в скорби и растерянности на краю могилы.
В выходные дни я прихожу по утрам, как все нормальные люди, и иногда встречаю возле этой могилки высокого мужчину с аристократически вытянутым лицом и красивой волной седых волос и женщину, которая в пятидесятые могла бы быть кинозвездой. Сразу понятно, что это муж и жена. Их сопровождает яркая молодая женщина, очевидно, дочь, которой повезло взять у родителей лучшее – отцовскую благородную стать и материнское изящество. Когда я здороваюсь с ними, они отвечают милостивым кивком, в котором благосклонность и запрет на дальнейшее общение сочетаются с аптекарской точностью. Уж не знаю, врожденное ли это умение или достигается годами тренировок, но в любом случае я не в обиде. Понятно, что их настоящее место там, возле часовни, среди ангелов и старинных мраморных плит, и только по злой прихоти судьбы они оказались на нашей пролетарской непрестижной окраине. И чернь в моем лице должна это понимать. Я и понимаю, тем более что видок у меня в последнее время затрапезный, так сразу и не скажешь, что высшее образование. Сначала переезд, потом ремонт, в общем, давненько мы не обновляли наш гардероб. Все мечтали, как наведем красоту и заживем… А получилось, что зажила я одна, интересно, значит ли это, что мечта сбылась наполовину? Короче говоря, и правда надо побродить по магазинам, чтобы не принимали за дремучую селянку, у которой всегда наготове шкалик за пазухой, чтобы помянуть прямо на могилке.
Девушка все стоит, неестественно сложив руки, а я все разглядываю ее, гадая, кем же они все друг другу приходятся, что связывает благородное семейство, девушку и покойника.
Как и наш, их холмик пока безымянный, можно, конечно, подойти поближе, почитать ленты на венках, но любопытство во мне пока еще не побеждает чувство приличия.
Наконец девушка ловит мой взгляд. Я улыбаюсь, она быстро улыбается в ответ и тут же отводит глаза, но я успеваю заметить, как удивительно хороша ее улыбка. На какую-то долю секунды я даже забываю, зачем я здесь.
Хмурясь, наверное, для того, чтобы нейтрализовать неуместную на кладбище улыбку, девушка поправляет венок и уходит, а я остаюсь сидеть, не замечая, как наступают незаметные майские сумерки. Вдруг вспоминаю, как в студенческие годы муж говорил про белые ночи – «очень низкий титр темноты». А потом мы уехали служить далеко от Ленинграда, да и химию подзабыли.
Вокруг становится совсем тихо, кажется, я осталась на кладбище одна из живых. Может быть, уже и ворота закрыли, но ничего страшного, в суровой и неприступной кирпичной стене неподалеку есть дыра, сквозь которую можно пролезть без особого риска получить травму или выставить себя на посмешище. В любой ограде есть тайный лаз, кроме той, что разделяет мир живых и мир мертвых.
* * *
Несмотря на сухую и солнечную погоду, туфельки оказались основательно испачканы серой глиной, и дома Люда сразу взялась за щетку, но, как ни старалась, присохшая грязь никак не хотела отходить, только глубже забивалась в швы и в рельеф подошв, придавая туфлям совсем уж затрапезный сиротский вид. Лев бы в обморок упал от такого зрелища, сверкающая чистотой обувь была для него едва ли не главным мерилом добра и зла…
Оттого, что она подумала о Льве в прошедшем времени, по спине пробежал холодок, Люда поежилась. Он жив, и думать надо о нем как о живом, а то, что они больше никогда не увидятся, совсем не важно.
Мятый жестяной тюбик явно был пуст, но Люда все-таки добыла из него пару молекул обувного крема. Так странно, еще год назад она спокойно ходила в чем попало, а теперь выйти из дому в нечищеной обуви для нее так же немыслимо, как в нижнем белье.
Люда торопилась, но все-таки не успела. Мама вышла из комнаты и, взглянув на осыпавшуюся с туфель грязь, сразу поняла, что дочь была на кладбище.
– Как трогательно, – усмехнулась мама, – а нас с отцом когда в гроб загонишь, тоже будешь на могилку ходить? Слезки проливать и умиляться?
Люда молча пошла за веником. Что тут ответишь? «Нет, не буду» и «да, буду» прозвучат одинаково издевательски. Умиляться… Само по себе слово вроде бы хорошее, но мама его всегда произносит так, будто выплевывает, и кажется, будто умиление – одно из самых позорных занятий, которым только может предаваться человек. Что ж, наверное, Люда и правда не имеет права ни на какие чувства, кроме стыда и вины.
Поспешно убрав в прихожей, Люда проскользнула в свою комнату и легла. Скорее бы наступила ночь, а за ней утро. Она быстренько соберется, пока все еще спят, и поедет на работу, а по дороге зайдет в универсам к открытию, наберет продуктов для передачки. Вдруг выбросят что-нибудь дефицитное? Хорошо бы копченую колбасу, но этот калорийный и долго хранящийся продукт бывает только в закрытых распределителях для номенклатуры и редко-редко в продуктовых заказах на предприятиях. Ну и если дружишь с работниками торговли, тоже можешь достать. В прошлой жизни у Льва все это было, но он никогда не пользовался, говорил, что подобные штучки превращают человека в лакея, каковым он категорически отказывается быть. Ну да что теперь об этом думать, официальный доступ к привилегиям закрыт, а прежние товарищи решительно вычеркнули Льва из своей жизни. Будто и не было у них никогда такого друга.
Завтра она купит на Невском шоколадных конфет для калорийности, но Лев мужчина, ему нужно мясо, и сладкое он вообще не любит. На рынке только если найдется что-нибудь подходящее, но там дорого, а денег не жалко, их просто нет. Отсутствуют. Зарплата ассистента кафедры невелика, и большая часть уходит в общий котел, остается как раз передачу собрать, но по магазинным, а не по рыночным ценам. В прежней жизни она попросила бы у родителей, они бы дали без всяких разговоров, но теперь, после всего, что она сделала, об этом не может быть и речи. Убийцам денег не дают.
Люда зажмурилась. Как стыдно, господи… Она должна предаваться угрызениям совести, а вместо этого думает о всяком житейском. Правильно бабушка называла ее холодной и бесчувственной эгоисткой, еще когда для всех остальных она была любимой девочкой. Раскусила внучку раньше других, но все равно любила.
Раньше так просто было жить, набедокуришь – не страшно, главное, осознать, раскаяться и попросить прощения. Рецепт проверенный. А в этот раз она даже осознать не может своей вины, поэтому родители и не прощают, хотя она к ним уже не раз приходила с повинной головой. Которую, по любимому присловью бабушки, меч не сечет.
Дверь скрипнула, приоткрываясь.
– Иди ужинать, – сказала Вера, как выплюнула.
– Спасибо, не хочу.
Вера вошла в комнату:
– Мы не КГБ, а ты не академик Сахаров, чтобы устраивать нам тут голодовки. Поверь, твои демонстрации никого не впечатлят и не заставят относиться к тебе иначе, чем ты заслуживаешь.
– Я просто не хочу есть, Верочка.
– Ты уже достаточно доставила родителям горя и хлопот, чтобы еще заставлять их волноваться о твоем здоровье, – отчеканила сестра, – поэтому изволь встать и выйти к столу.
Вера точно не собиралась возвращаться в столовую одна.
– Идем, – повторила сестра с нажимом, – думаешь, я в восторге оттого, что приходится сидеть с тобой за одним столом? Но я терплю, потерпишь и ты.
* * *
Внезапно меня приглашает пить чай сама Регина Владимировна. Я немного удивлена неожиданной милостью, но беру свою чашку и иду к ней в кабинет.
Регина Владимировна ставит на стол начатую коробку конфет, из которой опытные доктора уже съели самые вкусные, оставив только с пронзительно-белой помадкой, наливает чай и участливо смотрит мне в глаза. Может, искренне, но профессиональный интерес равновероятен.
– Как вы? – спрашивает она мягко. Пожалуй, слишком мягко.