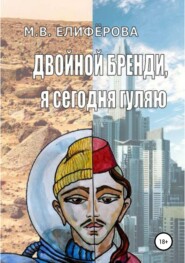По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Страшная Эдда
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Слушайте, – сказал Один, когда взгляды воинов обратились на него. – Это как раз та ночь, одна из девяти тысяч ночей. Рататоск спустилась в Мидгард.
Хёгни осторожно приблизился, чтобы лучше слышать. Другие последовали его примеру и стянулись в кольцо вокруг Одина. Великий бог продолжал:
– Белка Рататоск появляется в Мидгарде только тогда, когда должна сделать пророчество. Я хочу услышать пророчество Рататоск. Она где-то здесь, в этом лесу. Кто позовёт её?
– Но почему ты не можешь позвать её сам, великий Один? – спросил Бьёрн Лунатик, стоявший ближе всех к нему. Один покачал головой.
– Её может позвать только человек или тот, кто был человеком. В Мидгарде она не говорит для богов.
Хёгни выступил вперёд, отбросив с плеч плащ. Его серебристые глаза горели, как снежные искры.
– Я позову её, – сказал он. Один одобрительно кивнул. Хёгни сложил ладони у рта и прокричал:
– Рататоск! Рататоск! Рататоск!
Эхо гулко разнеслось по всему лесу, в воздухе задрожал тонкий льдистый звон. С еле слышным царапаньем по сосне соскользнула большая, как кот, белка, вся снежно-белая до кончиков ушей, с чёрными глазами.
– Здравствуй, Хёгни, сын Гьюки, – насмешливо сказала она, взмахнув пушистым хвостом. – Ты звал меня?
Хёгни протянул ей руку, и она взобралась на его предплечье.
– Говори, Рататоск, – с волнением сказал он. Белка впилась коготками в его руку и захохотала.
– Что же хочет от меня услышать тот, кто давно мёртв?
– Твой пророчество, – сказал Хёгни. Дружина вокруг смотрела, не шевелясь. Сам великий Один замер, держа руку на холке коня и повернув лицо зрячей стороной к Хёгни.
– Рататоск не делает приятных пророчеств, – возразила белка. – Обратись к вёльвам.
– Что может уязвить того, кто давно мёртв? – ответил Хёгни. – Чего страшиться воину из Вальгаллы?
– Много чего, – оборвала Рататоск, раскачиваясь на его руке. Хёгни начал терять терпение.
– Скажи то, ради чего ты послана в Мидгард. Не больше и не меньше.
– Сказать не трудно, – белка пошевелила усиками. – Скоро, очень скоро ворота Вальгаллы закроются для Мидгарда навсегда. Ни один новый воин не придёт больше в дружину Одина.
– Что ты имеешь в виду? – вздрогнул Хёгни. На миг ему показалось, что мороз обжёг его кожу, как если бы он был живым.
– Что слышал! – бросила белка, скатившись с него кубарем. Она подскочила к сосне и исчезла среди тёмных ветвей.
Воины Дикой Охоты в замешательстве переглядывались. Никто не решался сказать ни слова. Один опустил седую растрёпанную голову.
– Вот как… – глухо произнёс он. И тут позади них раздался пронзительный, тоскливый вой. Это выл Витвульф, волк, на котором ездил Хёгни.
Другие волки подхватили его плач и жалобно заскулили. Хёгни бросился к Витвульфу. Опустившись на колени в снег, он обнял волка за мохнатую шею и прижался к нему щекой.
– Витвульф, не надо, – зашептал он, – ничего не случилось. Ничего, ничего…
– Поехали, – недовольно сказал Один, влезая на Слейпнира. Дружина рассаживалась по волкам. Хёгни успокаивающе потрепал Витвульфа по спине и вскочил на него. Дикая Охота взмыла над землёй.
Здесь читатель возмущённо заметит, что подобной сцены в «Эдде» не было. Что же, считайте, что автор наконец начал проявлять художественное воображение. Хотя сомневаюсь, что оно у меня есть. Ведь Один так и не разрешил мне попробовать Мёд Поэзии.
Не буду врать, что я видел этот эпизод своими глазами. Но я видел нечто очень похожее, имевшее место тысячу лет спустя; и в моём распоряжении был рассказ Хёгни о той ночи. Хёгни и сейчас многое отдал бы за то, чтобы услышать пророчество Рататоск, но лет триста назад вредная белка перестала пророчествовать. Дикая Охота гоняется за нею впустую. Вместо пророчеств она выдаёт им такое, от чего даже у мёртвого викинга увянут уши.
Итак, скажет читатель, вы, уважаемый господин Мартышкин, по-прежнему хотите нас убедить, что встречались лично с Одином, Сигурдом и другими героями «Эдды»? Да ничего я не хочу, отвяжитесь. Рассматривайте это как ещё один художественный приём.
Уж мне ли не знать, что такое художественный приём! Однако «Старшая Эдда» и меня поставила в тупик. Я был зачарован, когда впервые прочёл её. Даже на русском языке она выглядит впечатляюще, не говоря уже об оригинале. Поэзия, каким-то чудом появившаяся в эпоху варваров, поэзия, подобной которой не появится в течение целой тысячи лет – подобной сложности и изысканности литература сможет вновь достигнуть только в эпоху позднего символизма. А эта удивительная звукопись, с которой ни в какое сравнение не идут вялые искусственные аллитерации поэтов XX века! При произнесении язык ударяет по каждому согласному, словно преодолевая препятствие, всё дышит усилием, напряжением, всё туго сплетено и физически ощутимо. А строки про «цаплю забвения» в «Речах Высокого»! Образец поэзии почти шекспировской мощи – сразу и не поймёшь, что эти энергичные и причудливо вытканные стихи призваны описать состояние… пьяного викинга.
Вы поняли, к чему я клоню? Эта поэзия вынырнула из неизвестных глубин древности у германских племён и бесследно исчезла к рубежу тысячелетий, с распадом эпического язычества. Лишь на самом севере она продержалась ещё два-три века, превратившись в забаву книжников и позднее прекратив существование. А теперь скажите мне: вы представляете себе её создателей?
Справка. Спали они в одном помещении с коровами и овцами, простынями не пользовались, на досуге ловили друг у друга блох, а такая эзотерическая вещь, как пижама, была вовсе недоступна их пониманию. Одевались главным образом в вонючие овчины и толстый войлок, и всё это вместо пуговиц скреплялось ремешками и устрашающего размера булавками – и, разумеется, не стиралось, потому что в те времена стирали только нижнее бельё, а оно не у всех племён имелось (не знаю, стоит ли доверять Тациту в смысле того, что в южных регионах германцы ходили голыми). А ещё они ели руками, которые вытирали прямо о себя, пили из громадных ковшей отчаянную бурду и запросто могли шарахнуть этой посудиной сотрапезника по голове, если, по их мнению, тот сказал что-то обидное. При этом они обожали рукопашный бой и крошили врагов секирами и мечами, а если уж одерживали победу, то отнюдь не руководствовались рыцарским кодексом в отношении побеждённых. Один из конунгов, по имени Альвар, получил прозвище «Детолюбивый». Вам интересно знать, за что? Он запретил своим головорезам при взятии города сбрасывать детей на копья (вероятно, они сочли его скучным человеком). В Скандинавии кое-кто перед боем доводил себя до полного одурения, принимая зелье из мухоморов, а любимым развлечением там было взять живого пленного и вскрыть ему грудную клетку, одновременно наблюдая за его поведением. Тому, кто волей-неволей оказался в такой ситуации, полагалось громко смеяться. Кроме того, они совершали человеческие жертвоприношения, а лучшим способом разрешить конфликт с соседями считали поджог соседского дома.
Короче говоря, современный человек не счёл бы их ничем иным, как грязными, грубыми и чудовищно бесчувственными варварами. Но как совместить с этим факт существования их поэзии? Как могла она возникнуть в столь неподходящей среде? Проще допустить, что цирковой медведь способен заговорить по-латыни.
Читатель глотает наживку. Он думает, что автор захочет изложить очередную льстящую самолюбию современного человека версию. Он ждёт измышлений о том, что поэзия скальдов создана пришельцами из будущего; или что она – до последней строчки подделка и написана в XVIII веке Макферсоном; или же, что события «Старшей Эдды» на самом деле имели место в Древней Греции, которая, однако, была вовсе не древней, а существовала в эпоху Ренессанса. Разочарую читателя. Я нисколько не сомневаюсь во времени и месте создания этой поэзии. Её могла сотворить только искренняя вера во всё, что там описано.
Происхождение поэзии тоже описано в «Эдде». «Эдда», таким образом, в какой-то степени описывает сама себя. Она сообщает, что поэзию дал людям Один. И это похоже на правду.
Появление этой поэзии объяснимо, если поверить её создателям – в то, что Один существует. Неземная красота скальдических и эпических стихов – доказательство его существования. Не смейтесь. Для христианина реален Христос, для индуса – Шива, и никто над ними не смеётся, даже если не согласен с ними. А чем гегелевский Абсолютный Дух лучше Одина? Мифологема, придуманная в тот век, когда люди соревновались в просвещённости и изяществе манер, крахмалили воротнички и осваивали фотографию и электричество, – столь же неправдоподобная, как древние боги, но куда менее симпатичная. Если Один сейчас никому не показывается, то главным образом потому, что в него не верят.
Не делайте понимающую кислую гримасу. Прощаете же вы вашей любимой девушке веру в гороскопы, диеты и групповые тренинги – хотя всё это явно не относится к высшим проявлениям разумности. Да вы и сами, читатель – вы во что-нибудь верите, и мне остаётся только угадать, во что. В мировой разум? В библиотеку Ивана Грозного? В поддельность «Слова о полку Игореве»? В затонувшие древние цивилизации? В психоанализ, в особый путь России или вред трансгенной сои? Только не надо махать у меня перед носом бумажным флагом с надписью «давно доказано наукой». Много ли вы имели дела с наукой? Может быть, вы штудировали десятки томов летописей, вели дневники наблюдений за шизофрениками или скармливали сотням мышей образцы соевого сыра? Вы верите потому, что вам это нравится и потому, что это регулярно повторяют в газетах. Ну, а мне нравится верить в то, что поэзия – подарок Одина. И если бы об этом напечатали в какой-нибудь цветной толстой газете с миллионным тиражом, вы бы не только верили в это, но и коллективно отлупили бы первого попавшегося под руку члена общества «Здравый смысл».
Итак, я всё больше и больше укреплялся в уверенности, что история про Мёд Поэзии – не выдумка и не метафора. Эту поэзию древние германцы получили из рук самого Одина. Парадокс, заметит внимательный читатель. Утончённость художественных приёмов в «Эдде» приводит к выводу, что легенда об Одине – вовсе не художественный приём.
Сигурд лежал, глядя на дно опустевшего ковша и раздумывая, стоит ли ещё выпить. Он не понимал смысла того, что сказала ехидная белка, но от этого непонимания делалось ещё больше не по себе. К счастью, похмелья волшебное молоко не давало, но Сигурд уже и так перебрал. Раньше с ним этого никогда не случалось.
Он поднял голову, бросил взгляд в сторону стола и увидел тяжеловесную волосатую фигуру Одина, так выделявшегося среди них. Великий бог сидел на лавке, облокотясь на стол, синий плащ, брошенный на скамью, свисал на пол. Если кому-то было хуже всех, то Одину – Сигурд ясно это понял. Он встал и, пошатываясь, двинулся к предводителю Дикой Охоты.
Сигурд оказался пьянее, чем он думал. Его хватило только на то, чтобы добрести до стола и сесть на пол у ног Одина. Лишь с третьей попытки ему удалось отбросить назад свисавшие на глаза волосы. Что сказать, он никак не мог придумать. Он сидел на полу, как печальная пьяная собака, пытающаяся утешить хозяина. Взгляд его упирался в застёгнутые крест-накрест ремни обуви на ногах Одина, которые съезжались и расплывались у него перед глазами. Сигурд потряс головой, пытаясь привести себя в порядок.
Один заметил его присутствие.
– В чём дело, Сигурд? – ласково спросил он, протянув руку и взъерошив ему волосы.
– Это я тебя хотел спросить, в чём дело, – усилием стряхнув с себя хмель, выговорил Сигурд. – Это всё из-за пророчества Рататоск?
– Да ты, я вижу, здорово того… – протянул Один, критически оглядев его. – Ты понял, что она сказала?
– Н-нет, – выдавил Сигурд и икнул. – Она сказала, что у тебя больше не будет новых воинов. Почему?
– А ты ничего не замечаешь? – сказал Один и нагнулся к нему. – Их действительно всё меньше и меньше. Я обратил внимание давно, ещё до того, как она сказала…
– Почему? В Мидгарде не перестают воевать.
– Да, но… Мне рассказал кое-что Олав Чёрный, ты знаешь – из тех, что прибыли к нам недавно. Люди очень переменились, Сигурд.
Один снова облокотился на стол. Преодолевая головокружение, Сигурд обвёл его взглядом.