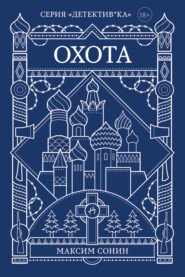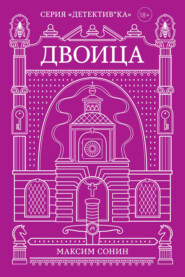По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Обитель
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
У одного человека была блудная жена. Каждый день ходила по деревне и блудила, а от мужа свой блуд скрывала. В один день муж узнал про блуд жены и решил ее наказать. Целую ночь молился, чтобы Бог ее покарал. Бог сказал мужу:
– Если жена оступилась, значит, муж ее за узду не держит. Возьми свою жену, ступай с ней на болото, скажи ей встать как собаке, и пускай из болота на коленях выбирается. Если послушается – будете жить счастливо. А если пойдет по болоту ногами, то не ее, а тебя покараю. Передо мной ты за жену в ответе.
Муж отвел жену на болото и сказал:
– Если ты меня любишь, то вставай на колени и ползи так до дома, как собака.
Жена на колени вставать не захотела. Тогда муж взял большой камень, замахнулся и снова сказал:
– Если ты меня любишь, то вставай на колени и ползи так до дома, как собака.
Жена и на этот раз его ослушалась. Тогда муж сломал камнем ей ноги и ушел.
К вечеру жена из болота выползла, дотащила себя до дома. Муж ждал ее на крыльце, поднял, поцеловал, отнес к печи, разложил там, стал лечить ее ноги. А жена на него затаила злобу. И ночью стала молиться, чтобы Бог мужа наказал. Бог ответил жене:
– Если бы ты послушалась мужа, ноги бы твои сейчас не болели. Молись не о наказании для него, а о прощении для себя.
Тут жена поняла свой грех и заплакала, а когда муж проснулся, стала просить у него прощения. Муж простил ее, и они стали дальше жить вместе, и жена больше не блудила.
Ева взяла с кровати простыню, свернула и быстро пошла обратно, все так же смотря только в пол. Голова снова закружилась, и она выбежала на улицу, опустилась в снег. Попробовала произнести взрослую молитву – без жестов, к молельне:
Господи, защити рабу Твою Еву, и научи ее во всем слушаться раба Твоего Адриана, и дай ей силы выполнить все его указания и во всем за ним следовать.
Сразу стало спокойнее. Ева выпрямилась, перекрестилась.
Адриан ждал ее на кровати. Он развязал ногу, и стала видна рана у самого колена. Адриан отмылся слегка – его лицо стало чистым, его ладони блестели и капали на кровать. Принесенную простыню он сразу стал рвать на длинные лоскуты. Ткань больно трещала по ушам, и Ева вся сжалась, думая о том, что так начинается ее терпеливая взрослая жизнь.
– Мелкая, – Адриан огляделся, потянул от изголовья кровати доску, – ты прости, что я тебя пока не могу отпустить гулять.
Он с хрустом оторвал доску, стал ломать.
– Просто в Обители сейчас нехорошо, – сказал он. – Нужно мне прибраться, а тебе этого видеть незачем. Я сейчас с ногой закончу, подремлю до вечера, а там пойду соберу по Обители сестер-братьев, тогда и тебе можно будет свободно гулять. Поняла?
Ева кивнула.
– Вот и хорошо. – Адриан стал прилаживать получившуюся деревяшку к ноге, обмотал ее обрывком простыни. – Ты, наверное, есть хочешь?
Ева снова кивнула.
– Ступай на кухню. – Адриан весь скривился, будто пытаясь проглотить иголку. – Там у дальней стены, в нижнем шкафу есть такая деревянная коробка. В ней бруски шоколадные. Их поешь, ну?
Ева кивнула в третий раз.
– Все. – Адриан вытянул ногу, сжал губы так, что те побелели. – Ступай. И там жди, я к тебе сам приду. В туалет, если что, там ходи, в котелок. На улицу ни ногой.
В пятый раз прошла Ева мимо колодца. На этот раз кровавого снега уже не боялась и решила подойти, заглянуть внутрь. В колодце было темно и холодно, как будто Ева в воду голову сунула. Далеко внизу лежали сплетенные тела – Ева разглядела белую вывернутую руку и темную голову, уткнувшуюся лицом в дно. Все же, значит, в колодце Адриан жил не один. Ева поскорее дошла до кухни, стала искать коробку с шоколадными брусками.
Коробка обнаружилась не там, где говорил Адриан, – она лежала в глубине одной из средних полок шкафа с запасами, и Ева еле-еле до нее дотянулась. В коробке и вправду лежали коричневые, рыхлые на вид плитки. Часть была завернута в бумагу, остальные лежали так и немного склеились.
Ева такие плитки видела раньше, но обычно младшим давали по маленькому куску – на всех хватало двух или трех плиток. Теперь же, когда она стала взрослой, ей можно было съесть целую плитку. Ева взяла один из бумажных конвертиков, села на пол возле потухших углей. Огонь надо было скоро разводить заново, на кухне было уже морозно, но сначала Еве очень хотелось есть. Она развернула плитку, осторожно откусила край, боясь, что та окажется слишком сухой. На зубах песком захрустел шоколад с привкусом железа. Ева чуть не сплюнула – неслучайно детям кусочки давали с водой.
Воды набрала из бочки, и есть сразу стало проще – за пару минут Ева расправилась с плиткой и сразу пошла за второй. Адриан не сказал, что ей можно только одну съесть. После второй плитки захотелось третью. Кухня плыла перед глазами, но Ева поднялась, дошла, покачиваясь, до шкафа, вытащила очередной конвертик из коробки, сразу, прямо сквозь бумагу, надкусила и осела на пол. Глаза вроде оставались открыты, но ничего не видели, а в ушах вдруг засвистело, как будто Ева быстро бежала по пустой дороге. Что-то давило на затылок, и кухня вокруг унеслась куда-то вверх – Ева почувствовала, что падает, падает в какой-то бесконечный, совершенно черный колодец. Воздух в ушах бился о кровеносные сосуды – казалось, что голова сейчас лопнет. Ева закричала и не услышала собственного голоса. Даже не увидела рук – только почувствовала, что падение ускоряется.
На кухню Адриан зашел уже к ночи. И вправду дремал, ждал, пока боль хоть чуть-чуть утихнет. То есть, конечно, не боль – боль ему была в радость, – а слабость, едкое болото, в которое проваливалась голова каждый раз, когда в колене выстреливала рана. Адриан ждал, следил за собой даже в полудреме, и, как только стало понятно, что голова проясняется, поднялся. Нужно было убраться в Обители. Тела стащить, скинуть в колодец, вслед за матушкой и сестрой. Дома, молельню сжечь. Не сразу – и для этого-то трупы и нужно было спрятать. Пару дней предстояло еще провести здесь, собирая по норам под молельней, по ящикам в мастерской необходимые для мирской жизни припасы. Где-то здесь должен был отец прятать деньги. Много денег, достаточно для того, чтобы жить потом в мире без забот. Отец деньги берег, лишнего никогда не тратил – должен был за годы скопить состояние.
Малую Адриан уже решил, что с собой заберет, – девочка была хорошая, добрая, к тому же сестра все-таки. Планов женитьбы не строил. Когда-то, до колодца, такая малютка бы Адриану очень приглянулась. Теперь же тело Адриана умело отзываться на мир только болью. Он не чувствовал жара и холода, возбужденья или дрожи. Только больно – не больно. Нужно было найти деньги и уехать в Петрозаводск, оттуда податься или на север, за Мурманск, или наоборот, на самый юг, к Украине. Адриан знал, какой рай ему нужен. Своя Обитель – дом, лес, поле. И море крови.
Об этом думал постоянно, так уже привык, что и не замечал почти. Вчера, когда бродил по Обители, забивал братьев и сестер, старших, младших, думал о другом – о том, нужно ли в городе искать документы, нужно ли брать с собой «Двоицу», которая хранилась в мастерской, в таблетках, и на кухне – в гематогенных плитках, привезенных из города, которые сестры пропитывали «Двоицей» для младших. «Двоица» стоила дорого и ее, конечно, можно было продавать самому, но Адриану было скучно об этом думать, скучно представлять старую, доколодезную жизнь, в которой приходилось разговаривать с другими людьми. Вместо них он теперь видел просто куски мяса, которые, наверное, двигались и, возможно, даже что-то думали.
Куски мяса, разбросанные по Обители, не двигались и не думали. Они лежали там, где он их вчера оставил. В кроватях с засохшей кровью. Сначала Адриан сходил за отцом, перетащил того к колодцу – делать это было трудно, нога не гнулась совсем, поэтому Адриан цеплял тело ободранным стволом ружья, которое за вчера заострилось, покрылось крючками гнутого металла. Тащил тело за собой, и выходило медленно. Еще медленнее было сбрасывать его в колодец. Адриан осторожно садился рядом, вытягивал ноги и руками подтаскивал тело через себя, через плечо и каменную кладку скидывал в темноту.
С детьми было проще, а больше всего провозился с толстой сестрой, которую всегда не любил, даже до колодца. Хотел даже разорвать ее на куски поменьше, но побоялся, что силы кончатся. Тело болело меньше, чем ночью, но все еще было будто сонное, все время хотелось лечь, растянуться, расслабиться. Адриан впервые позавидовал брату Дмитрию, который всегда умел будто бы всасывать боль, растворять ее в душе. Если кто-то и мог склонить его к молитве – так это брат, который, в отличие от отца, матушки и всех остальных, жил в мире как в царствии Божьем. Мир видел как два колоса, гнилой и здоровый, и всегда знал, какой срубить. Адриан даже обратился к брату, хотя тот давно не жил в Обители:
– Димка?
Обитель не ответила, и Адриан понял, что снова проваливается в дремотный бред. Нога не болела, но стягивала душу изнутри, будто забирая себе всю силу. Адриан дотащил до колодца последний труп, добрел до кухни, заглянул. Там было темно и холодно. Если спать снова, нужно было развести огонь.
Малая валялась на полу, подрагивала, обожравшись «Двоицы». Адриан, проходя, ткнул ее ружьем в плечо, и она вскрикнула, не просыпаясь. Хорошо, пускай лежит. Он ее специально сюда отправил. Не хотел, чтобы она все тела видела, это для ее маленькой души могло быть слишком тяжким, слишком страшным. С пола подобрал спички, жидкость для розжига. Стал делать огонь.
Глава третья
Даниил Андреевич, мужчина лет сорока, приятно округлый, улыбчивый, перекрестился и вошел в приемную. К митрополиту он ездил часто – и по делам МВД, и по личной приязни, – но сегодня был один из тех редких дней, когда предстояло перед митрополитом оправдываться. Казаченко, один из лучших полицейских сотрудников и несомненный митрополитовский фаворит, к вечеру, как обещал, не отрапортовался. Даниил Андреевич сперва значения этому не придал – дела митрополита могли занести Казаченко далеко от города, могли быть и конфиденциальными. Всякое случалось. Но полчаса назад из канцелярии епархиального управления позвонил секретарь, чтобы узнать, не появлялся ли Казаченко в полиции. Это насторожило Даниила Андреевича, потому что означало, что там Казаченко тоже ждали к вечеру и уже заждались.
В отличие от многих других полицейских города, Даниил Андреевич митрополита Иосифа любил искренне. И поэтому сразу собрался ехать в канцелярию. Логика тут была простая: у митрополита возникла какая-то трудность, требовавшая полицейской помощи. Даниил Андреевич эту помощь в лице Казаченко предоставил. Теперь Казаченко исчез. Первым делом нужно было выяснить, нужна ли еще митрополиту помощь, и эту помощь оказать, а потом уже заняться поисками Казаченко. Даниил Андреевич знал, что трудности митрополита – это трудности всего города, а чаще и всей области, и на фоне таких трудностей исчезновение одного, даже лучшего, сотрудника вряд ли могло быть важным событием.
В приемной канцелярии Даниила Андреевича уже ждали. Секретарь, подтянутый парень с гимназистской выправкой и заметной татуировкой креста на шее, прямо над воротничком, провел его к кабинету митрополита и, спросив: «Чай-кофе?», исчез в приемной. Даниил Андреевич снова перекрестился, постучался. В голове уже приготовил все, что нужно сказать: одно предложение извинений, одно – оправданий, краткое обещание усилия дополнительные приложить, а затем предложения по замене Казаченко – у Даниила Андреевича был специально заготовлен список подходящих сотрудников, которые на всякий случай сейчас все ждали в полицейском управлении.
– Войди, – раздалось из-за двери. Даниил Андреевич толкнул дверь и оказался в кабинете митрополита. Как всегда, здесь было жарко, даже душно. Митрополит сидел у компьютера и, судя по раскрытой книге и разложенным поверх клавиатуры распечаткам, сверял лицензионные номера каких-то некоммерческих фондов. Митрополит указал здоровой рукой на стул, покачал пальцем, показывая, что сейчас закончит.
Даниил Андреевич любил наблюдать за его размеренной, спокойной работой. Над бумагами медленно перемещался красный карандаш – митрополит что-то подчеркивал, выделял, помечал, затем перекладывал распечатки, снова сверялся с книгой. В этой книге хранилась область: две епархии, сотня приходов, почти дюжина монастырей, десятки фондов и попечительских организаций. Над этой книгой, если бы ее видели коллеги Даниила Андреевича, многие бы смеялись – но сам Даниил Андреевич понимал, что не случайно в одном бумажном хранилище собрана вся эта информация. Митрополит знал каждую страницу книги наизусть и пользовался ей для того, чтобы не занимать мысли скучной работой. Своей головой он решал проблемы сложные, а всякие лицензии, назначения, бюджеты – все это были проблемы простые, ничего, кроме бумаги и карандаша, не заслуживающие. И телефоном с компьютером митрополит пользовался редко и медлительно не потому, что не умел – в свое время сам организовал первый компьютеризированный архив в епархии, – а чтобы силы в пустое не уходили. И манера говорить – по той же привычке – у митрополита была необычная. Как будто лишний раз иногда проговаривал всем знакомые вещи.
– Ты ко мне сегодня Казаченко присылал. – Митрополит переложил толстую руку ближе к середине стола, карандаш опустил рядом. – Я его отправил в лес, к монастырю моего брата, из которого давно жду ответ.
Даниил Андреевич весь напрягся. Во-первых, потому что никогда не слышал о том, что у митрополита есть брат, а во-вторых, потому что митрополит обычно свои дела полицейским не объяснял. Давал указания, и все.
– Брат мне не пишет, – сказал митрополит. – У нас с ним уговор, что, если такое случится, я жду два дня, потом посылаю гонца. Если гонец не возвращается, значит, что-то в монастыре случилось.
Даниил Андреевич слушал молча, не кивал, потому что знал, что митрополиту такие знаки не нужны.
– Нужно отправить наряд, – сказал митрополит. – Прямо сейчас. И сам с ними поедешь.
Даниил Андреевич кивнул. Не решался все никак спросить важное, но митрополит будто подслушал мысли.
– О безопасности не беспокойся, – сказал он. – Обычный лесной монастырь, старый. Адрес я тебе сейчас напишу.
На улицу Даниил Андреевич вышел в задумчивости. Важных вопросов было два: сообщать ли о просьбе прямому начальству и кого взять с собой в экспедицию. О том, что митрополита можно ослушаться, Даниил Андреевич не думал. Ни разу еще не было такого, чтобы Иосиф в чем-то себя не оправдал. Всегда отличался большой мудростью.
Даниил Андреевич посмотрел на листок с координатами. Всего однажды ездил он в такой лесной монастырь, не монастырь даже, церковный детский дом на Ладоге. Помнил, какая там была «дорога». Значит, надо было не только о сотрудниках, но и о машине подумать.
– Если жена оступилась, значит, муж ее за узду не держит. Возьми свою жену, ступай с ней на болото, скажи ей встать как собаке, и пускай из болота на коленях выбирается. Если послушается – будете жить счастливо. А если пойдет по болоту ногами, то не ее, а тебя покараю. Передо мной ты за жену в ответе.
Муж отвел жену на болото и сказал:
– Если ты меня любишь, то вставай на колени и ползи так до дома, как собака.
Жена на колени вставать не захотела. Тогда муж взял большой камень, замахнулся и снова сказал:
– Если ты меня любишь, то вставай на колени и ползи так до дома, как собака.
Жена и на этот раз его ослушалась. Тогда муж сломал камнем ей ноги и ушел.
К вечеру жена из болота выползла, дотащила себя до дома. Муж ждал ее на крыльце, поднял, поцеловал, отнес к печи, разложил там, стал лечить ее ноги. А жена на него затаила злобу. И ночью стала молиться, чтобы Бог мужа наказал. Бог ответил жене:
– Если бы ты послушалась мужа, ноги бы твои сейчас не болели. Молись не о наказании для него, а о прощении для себя.
Тут жена поняла свой грех и заплакала, а когда муж проснулся, стала просить у него прощения. Муж простил ее, и они стали дальше жить вместе, и жена больше не блудила.
Ева взяла с кровати простыню, свернула и быстро пошла обратно, все так же смотря только в пол. Голова снова закружилась, и она выбежала на улицу, опустилась в снег. Попробовала произнести взрослую молитву – без жестов, к молельне:
Господи, защити рабу Твою Еву, и научи ее во всем слушаться раба Твоего Адриана, и дай ей силы выполнить все его указания и во всем за ним следовать.
Сразу стало спокойнее. Ева выпрямилась, перекрестилась.
Адриан ждал ее на кровати. Он развязал ногу, и стала видна рана у самого колена. Адриан отмылся слегка – его лицо стало чистым, его ладони блестели и капали на кровать. Принесенную простыню он сразу стал рвать на длинные лоскуты. Ткань больно трещала по ушам, и Ева вся сжалась, думая о том, что так начинается ее терпеливая взрослая жизнь.
– Мелкая, – Адриан огляделся, потянул от изголовья кровати доску, – ты прости, что я тебя пока не могу отпустить гулять.
Он с хрустом оторвал доску, стал ломать.
– Просто в Обители сейчас нехорошо, – сказал он. – Нужно мне прибраться, а тебе этого видеть незачем. Я сейчас с ногой закончу, подремлю до вечера, а там пойду соберу по Обители сестер-братьев, тогда и тебе можно будет свободно гулять. Поняла?
Ева кивнула.
– Вот и хорошо. – Адриан стал прилаживать получившуюся деревяшку к ноге, обмотал ее обрывком простыни. – Ты, наверное, есть хочешь?
Ева снова кивнула.
– Ступай на кухню. – Адриан весь скривился, будто пытаясь проглотить иголку. – Там у дальней стены, в нижнем шкафу есть такая деревянная коробка. В ней бруски шоколадные. Их поешь, ну?
Ева кивнула в третий раз.
– Все. – Адриан вытянул ногу, сжал губы так, что те побелели. – Ступай. И там жди, я к тебе сам приду. В туалет, если что, там ходи, в котелок. На улицу ни ногой.
В пятый раз прошла Ева мимо колодца. На этот раз кровавого снега уже не боялась и решила подойти, заглянуть внутрь. В колодце было темно и холодно, как будто Ева в воду голову сунула. Далеко внизу лежали сплетенные тела – Ева разглядела белую вывернутую руку и темную голову, уткнувшуюся лицом в дно. Все же, значит, в колодце Адриан жил не один. Ева поскорее дошла до кухни, стала искать коробку с шоколадными брусками.
Коробка обнаружилась не там, где говорил Адриан, – она лежала в глубине одной из средних полок шкафа с запасами, и Ева еле-еле до нее дотянулась. В коробке и вправду лежали коричневые, рыхлые на вид плитки. Часть была завернута в бумагу, остальные лежали так и немного склеились.
Ева такие плитки видела раньше, но обычно младшим давали по маленькому куску – на всех хватало двух или трех плиток. Теперь же, когда она стала взрослой, ей можно было съесть целую плитку. Ева взяла один из бумажных конвертиков, села на пол возле потухших углей. Огонь надо было скоро разводить заново, на кухне было уже морозно, но сначала Еве очень хотелось есть. Она развернула плитку, осторожно откусила край, боясь, что та окажется слишком сухой. На зубах песком захрустел шоколад с привкусом железа. Ева чуть не сплюнула – неслучайно детям кусочки давали с водой.
Воды набрала из бочки, и есть сразу стало проще – за пару минут Ева расправилась с плиткой и сразу пошла за второй. Адриан не сказал, что ей можно только одну съесть. После второй плитки захотелось третью. Кухня плыла перед глазами, но Ева поднялась, дошла, покачиваясь, до шкафа, вытащила очередной конвертик из коробки, сразу, прямо сквозь бумагу, надкусила и осела на пол. Глаза вроде оставались открыты, но ничего не видели, а в ушах вдруг засвистело, как будто Ева быстро бежала по пустой дороге. Что-то давило на затылок, и кухня вокруг унеслась куда-то вверх – Ева почувствовала, что падает, падает в какой-то бесконечный, совершенно черный колодец. Воздух в ушах бился о кровеносные сосуды – казалось, что голова сейчас лопнет. Ева закричала и не услышала собственного голоса. Даже не увидела рук – только почувствовала, что падение ускоряется.
На кухню Адриан зашел уже к ночи. И вправду дремал, ждал, пока боль хоть чуть-чуть утихнет. То есть, конечно, не боль – боль ему была в радость, – а слабость, едкое болото, в которое проваливалась голова каждый раз, когда в колене выстреливала рана. Адриан ждал, следил за собой даже в полудреме, и, как только стало понятно, что голова проясняется, поднялся. Нужно было убраться в Обители. Тела стащить, скинуть в колодец, вслед за матушкой и сестрой. Дома, молельню сжечь. Не сразу – и для этого-то трупы и нужно было спрятать. Пару дней предстояло еще провести здесь, собирая по норам под молельней, по ящикам в мастерской необходимые для мирской жизни припасы. Где-то здесь должен был отец прятать деньги. Много денег, достаточно для того, чтобы жить потом в мире без забот. Отец деньги берег, лишнего никогда не тратил – должен был за годы скопить состояние.
Малую Адриан уже решил, что с собой заберет, – девочка была хорошая, добрая, к тому же сестра все-таки. Планов женитьбы не строил. Когда-то, до колодца, такая малютка бы Адриану очень приглянулась. Теперь же тело Адриана умело отзываться на мир только болью. Он не чувствовал жара и холода, возбужденья или дрожи. Только больно – не больно. Нужно было найти деньги и уехать в Петрозаводск, оттуда податься или на север, за Мурманск, или наоборот, на самый юг, к Украине. Адриан знал, какой рай ему нужен. Своя Обитель – дом, лес, поле. И море крови.
Об этом думал постоянно, так уже привык, что и не замечал почти. Вчера, когда бродил по Обители, забивал братьев и сестер, старших, младших, думал о другом – о том, нужно ли в городе искать документы, нужно ли брать с собой «Двоицу», которая хранилась в мастерской, в таблетках, и на кухне – в гематогенных плитках, привезенных из города, которые сестры пропитывали «Двоицей» для младших. «Двоица» стоила дорого и ее, конечно, можно было продавать самому, но Адриану было скучно об этом думать, скучно представлять старую, доколодезную жизнь, в которой приходилось разговаривать с другими людьми. Вместо них он теперь видел просто куски мяса, которые, наверное, двигались и, возможно, даже что-то думали.
Куски мяса, разбросанные по Обители, не двигались и не думали. Они лежали там, где он их вчера оставил. В кроватях с засохшей кровью. Сначала Адриан сходил за отцом, перетащил того к колодцу – делать это было трудно, нога не гнулась совсем, поэтому Адриан цеплял тело ободранным стволом ружья, которое за вчера заострилось, покрылось крючками гнутого металла. Тащил тело за собой, и выходило медленно. Еще медленнее было сбрасывать его в колодец. Адриан осторожно садился рядом, вытягивал ноги и руками подтаскивал тело через себя, через плечо и каменную кладку скидывал в темноту.
С детьми было проще, а больше всего провозился с толстой сестрой, которую всегда не любил, даже до колодца. Хотел даже разорвать ее на куски поменьше, но побоялся, что силы кончатся. Тело болело меньше, чем ночью, но все еще было будто сонное, все время хотелось лечь, растянуться, расслабиться. Адриан впервые позавидовал брату Дмитрию, который всегда умел будто бы всасывать боль, растворять ее в душе. Если кто-то и мог склонить его к молитве – так это брат, который, в отличие от отца, матушки и всех остальных, жил в мире как в царствии Божьем. Мир видел как два колоса, гнилой и здоровый, и всегда знал, какой срубить. Адриан даже обратился к брату, хотя тот давно не жил в Обители:
– Димка?
Обитель не ответила, и Адриан понял, что снова проваливается в дремотный бред. Нога не болела, но стягивала душу изнутри, будто забирая себе всю силу. Адриан дотащил до колодца последний труп, добрел до кухни, заглянул. Там было темно и холодно. Если спать снова, нужно было развести огонь.
Малая валялась на полу, подрагивала, обожравшись «Двоицы». Адриан, проходя, ткнул ее ружьем в плечо, и она вскрикнула, не просыпаясь. Хорошо, пускай лежит. Он ее специально сюда отправил. Не хотел, чтобы она все тела видела, это для ее маленькой души могло быть слишком тяжким, слишком страшным. С пола подобрал спички, жидкость для розжига. Стал делать огонь.
Глава третья
Даниил Андреевич, мужчина лет сорока, приятно округлый, улыбчивый, перекрестился и вошел в приемную. К митрополиту он ездил часто – и по делам МВД, и по личной приязни, – но сегодня был один из тех редких дней, когда предстояло перед митрополитом оправдываться. Казаченко, один из лучших полицейских сотрудников и несомненный митрополитовский фаворит, к вечеру, как обещал, не отрапортовался. Даниил Андреевич сперва значения этому не придал – дела митрополита могли занести Казаченко далеко от города, могли быть и конфиденциальными. Всякое случалось. Но полчаса назад из канцелярии епархиального управления позвонил секретарь, чтобы узнать, не появлялся ли Казаченко в полиции. Это насторожило Даниила Андреевича, потому что означало, что там Казаченко тоже ждали к вечеру и уже заждались.
В отличие от многих других полицейских города, Даниил Андреевич митрополита Иосифа любил искренне. И поэтому сразу собрался ехать в канцелярию. Логика тут была простая: у митрополита возникла какая-то трудность, требовавшая полицейской помощи. Даниил Андреевич эту помощь в лице Казаченко предоставил. Теперь Казаченко исчез. Первым делом нужно было выяснить, нужна ли еще митрополиту помощь, и эту помощь оказать, а потом уже заняться поисками Казаченко. Даниил Андреевич знал, что трудности митрополита – это трудности всего города, а чаще и всей области, и на фоне таких трудностей исчезновение одного, даже лучшего, сотрудника вряд ли могло быть важным событием.
В приемной канцелярии Даниила Андреевича уже ждали. Секретарь, подтянутый парень с гимназистской выправкой и заметной татуировкой креста на шее, прямо над воротничком, провел его к кабинету митрополита и, спросив: «Чай-кофе?», исчез в приемной. Даниил Андреевич снова перекрестился, постучался. В голове уже приготовил все, что нужно сказать: одно предложение извинений, одно – оправданий, краткое обещание усилия дополнительные приложить, а затем предложения по замене Казаченко – у Даниила Андреевича был специально заготовлен список подходящих сотрудников, которые на всякий случай сейчас все ждали в полицейском управлении.
– Войди, – раздалось из-за двери. Даниил Андреевич толкнул дверь и оказался в кабинете митрополита. Как всегда, здесь было жарко, даже душно. Митрополит сидел у компьютера и, судя по раскрытой книге и разложенным поверх клавиатуры распечаткам, сверял лицензионные номера каких-то некоммерческих фондов. Митрополит указал здоровой рукой на стул, покачал пальцем, показывая, что сейчас закончит.
Даниил Андреевич любил наблюдать за его размеренной, спокойной работой. Над бумагами медленно перемещался красный карандаш – митрополит что-то подчеркивал, выделял, помечал, затем перекладывал распечатки, снова сверялся с книгой. В этой книге хранилась область: две епархии, сотня приходов, почти дюжина монастырей, десятки фондов и попечительских организаций. Над этой книгой, если бы ее видели коллеги Даниила Андреевича, многие бы смеялись – но сам Даниил Андреевич понимал, что не случайно в одном бумажном хранилище собрана вся эта информация. Митрополит знал каждую страницу книги наизусть и пользовался ей для того, чтобы не занимать мысли скучной работой. Своей головой он решал проблемы сложные, а всякие лицензии, назначения, бюджеты – все это были проблемы простые, ничего, кроме бумаги и карандаша, не заслуживающие. И телефоном с компьютером митрополит пользовался редко и медлительно не потому, что не умел – в свое время сам организовал первый компьютеризированный архив в епархии, – а чтобы силы в пустое не уходили. И манера говорить – по той же привычке – у митрополита была необычная. Как будто лишний раз иногда проговаривал всем знакомые вещи.
– Ты ко мне сегодня Казаченко присылал. – Митрополит переложил толстую руку ближе к середине стола, карандаш опустил рядом. – Я его отправил в лес, к монастырю моего брата, из которого давно жду ответ.
Даниил Андреевич весь напрягся. Во-первых, потому что никогда не слышал о том, что у митрополита есть брат, а во-вторых, потому что митрополит обычно свои дела полицейским не объяснял. Давал указания, и все.
– Брат мне не пишет, – сказал митрополит. – У нас с ним уговор, что, если такое случится, я жду два дня, потом посылаю гонца. Если гонец не возвращается, значит, что-то в монастыре случилось.
Даниил Андреевич слушал молча, не кивал, потому что знал, что митрополиту такие знаки не нужны.
– Нужно отправить наряд, – сказал митрополит. – Прямо сейчас. И сам с ними поедешь.
Даниил Андреевич кивнул. Не решался все никак спросить важное, но митрополит будто подслушал мысли.
– О безопасности не беспокойся, – сказал он. – Обычный лесной монастырь, старый. Адрес я тебе сейчас напишу.
На улицу Даниил Андреевич вышел в задумчивости. Важных вопросов было два: сообщать ли о просьбе прямому начальству и кого взять с собой в экспедицию. О том, что митрополита можно ослушаться, Даниил Андреевич не думал. Ни разу еще не было такого, чтобы Иосиф в чем-то себя не оправдал. Всегда отличался большой мудростью.
Даниил Андреевич посмотрел на листок с координатами. Всего однажды ездил он в такой лесной монастырь, не монастырь даже, церковный детский дом на Ладоге. Помнил, какая там была «дорога». Значит, надо было не только о сотрудниках, но и о машине подумать.