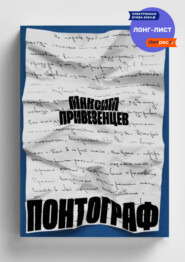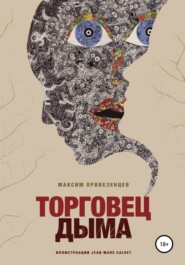По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шотландский ветер Лермонтова
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Убит… на дуэли…»
Уваров отчасти понимал, почему высший свет так любит дуэли – все изнывают от скуки, и такое событие оживляет не только самих спорщиков, но и весь людской рой на долгие месяцы. Если же кто-то в итоге окажется убит, обсуждать это будут годами – как, собственно, и вышло с Александром Сергеевичем Пушкиным. Но что же заставляет двух русских офицеров целиться друг в друга на войне, где и без того хватает способов лишиться жизни, в чем-то даже более простых и доступных, нежели дуэль.
Но факт оставался фактом.
Уваров шумно выдохнул и спросил:
– Как это вышло? С кем он стрелялся и где?
– Стрелялся с Мартыновым, у подножия Машука.
– Постой-ка… С Мартыновым? Но они же всегда были дружны!
– Да, это так. Но, видимо, вечные подшучивания Мишеля утомили самодовольного «Вышеносова». Хотя, полагаю, одной обидой выстрел вчерашнему другу прямо в грудь не объяснишь, да-с…
– Ты полагаешь здесь… что-то большее? – осторожно уточнил Петр Алексеевич.
– Я полагаю, тебе надо выслушать меня и самому сделать выводы, – ответил Лев.
– Я весь внимание, – сказал Уваров.
Запоздало спохватившись, он с трудом поднялся на кровати и сел, свесив ноги.
– Ссора случилась 13 июня, вечером, в доме Верзилиных, – начал Лев. – Совпадение или нет, не знаю, но большую часть участников нашего кружка выслали из Пятигорска с разными поручениями, как будто не желая, чтобы вечером они были рядом с Мишелем. Из всех, помимо Лермонтова, были только я, Сережа Трубецкой да Саша Васильчиков.
– Теперь понятно, отчего Мишель выбрал Трубецкого, а не Монго.
– Непонятно, отчего не меня, – с некоторой долей обиды в голосе сказал Лев.
«Наверное, после трагедии, случившейся с Александром Сергеевичем, просто не хотел втягивать его младшего брата в какие-то сомнительные истории», – мелькнула в голове Уварова мысль.
– Впрочем, то был его выбор, и не мне судить его за это, – тут же оговорился Лев. – В общем, мы собрались в доме Верзилиных, дабы почтить память декабристов, ведь с того ужасного дня, когда состоялась несправедливая их казнь и началось стремительное погружение нашей родины в беспросветное мракобесие, минуло ровно 15 лет. Пусть, как я уже сказал, нас было всего четверо, но проигнорировать столь значимую дату кружок попросту не мог. Мишель сокрушался едва ли не больше всех. Куда, вопрошал он, скатились мы с этим новым, николаевским, режимом? Кто сможет и сможет ли вообще поднять нас с этого дна, или мы врастем в ил забвения навечно? Больше всего, помню, Мишеля ужасало – смирение наших современников с тем, что лучше быть не может. Подобное отношение порождало безразличие ко всему, что происходит вокруг, а безразличие есть даже не вялое течение жизни, а ее полное отсутствие… Сидя в самом углу зала на креслах, мы слушали пламенные речи Мишеля и дымили папиросами, когда пожаловал Мартынов. А ты ведь помнишь, как этот narcissique poseur (самовлюбленный позер, франц.) любил наряжаться в одежды горцев?
– Помню, конечно. Собственно, мнится мне, от этого же Мишель и начал над ним подтрунивать, именуя его – Аристократ-мартышка или просто Мартыш.
– Из-за этого, да. И вот он опять пришел в черкеске и с кинжалом до колена. Мишель, разумеется, не нашел сил смолчать. Впрочем, говорил он более нам, но Мартынов что-то услышал и подошел, недовольный, требовать объяснений. Мишель поначалу улыбался – его забавляло, когда Николай злился, он находил это потешным – но тогда Мартынов не ограничился бурчанием. С красным от гнева лицом он сквозь зубы процедил: «Знал бы о вашем сборище Бенкендорф, сидели бы уже на гауптвахте!» Лермонтова это вывело из себя, и он принялся подначивать Мартынова: «Ну так пойди и донеси!» Мишель делал это так громко, что смутил Николая, и тот нас покинул. Мы решили, что дело кончено, но, когда мы уже собирались по домам, Мартынов вернулся и отозвал Мишеля в сторону. Они о чем-то поговорили довольно холодно, и Николай убрался восвояси, а Мишель вернулся к нам. Трубецкой спросил, чего хотел Мартынов? Лермонтов ответил, что он хочет дуэли, и он, Мишель, собирается это желание удовлетворить. Мы наперебой принялись убеждать нашего поручика взять слово назад, чем только разозлили его и ничего не добились. Он просил Трубецкого стать его секундантом, и тот не отказал. На этом мы и расстались, чтобы два дня спустя отправиться в Шотландку – ты ведь тоже бывал с нами в этой колонии, в семи верстах от Пятигорска? – чтобы отобедать там в ресторане Анны Ивановны перед грядущей дуэлью…
Лев замялся – воспоминания о тех трагических событиях были все еще свежи в памяти – но все-таки нашел в себе силы продолжить:
– В тот день была ужасная погода. Мишель, пока мы были в пути, да и потом, когда трапезничали, много шутил и выглядел совершенно расслабленным. Когда Сережа Трубецкой спросил, отчего он совсем не переживает, Мишель сказал: «Не сомневаюсь, что все разрешится хорошо, мы с Мартыновым старые друзья». Да, у Верзилиных он, безусловно, погорячился, но теперь, два дня спустя, наверняка остыл и понял, что дело выеденного яйца не стоит. Нам так не казалось, но мы, конечно же, знали Николая не так хорошо, как Мишель, поэтому ему удалось несколько нас успокоить. Однако же перед тем, как покинуть трактир и отправиться на дуэль, Лермонтов отвел меня в сторону для разговора и просил в случае трагической развязки передать тебе это.
С этими словами Лев достал из кармана нечто блестящее и вложил Уварову в ладонь. Петр Алексеевич с недоумением уставился на странный дар Пушкина – золотое кольцо с надписью на латыни.
– Что это? – спросил Уваров.
Лев, с опаской покосившись в сторону двери, тихо сказал:
– Кольцо шотландских масонов.
– Но… откуда? – изумился Петр Алексеевич.
– Там же, в Шотландке, находится миссия протестантов, основанная представителями эдинбургской масонской ложи. Лермонтов познакомился с ними еще в первую свою ссылку на Кавказ и, насколько я знаю, вел переписку до самой второй ссылки. Вполне вероятно, это закончилось бы ничем, но, вернувшись на Кавказ, Мишель стал частым их гостем. Я знал о них, но и помыслить не мог, что Мишель условится с ними… о побеге.
– О побеге? – эхом повторил Уваров.
– Мишель не упоминал подробностей, – сказал Лев. – Но, как я понял из его короткого рассказа, они договорились помочь ему, а позже – и бабушке, уехать в Шотландию, да не просто уехать, а обзавестись там собственным хозяйством: по заверениям масонов, их влияния в Туманном Альбионе для подобного хватило бы с лихвой. Поэтому главной проблемой было покинуть Россию, но и здесь решение нашлось: пятнадцатого августа из Петергофского порта в Эдинбург отправляется пароход «Екатерина». Пропуском на борт служит это кольцо.
– А как же Елизавета Алексеевна?
– Мишель хотел вернуться в Петербург около двадцатого июля и обо всем ей рассказать. Он почему-то не сомневался, что бабушка поддержит его стремление покинуть Россию – наверное, потому, что прежде она поддерживала его во всем. Однако же Мартынов расстроил все планы… Назад в трактир вернулся только Трубецкой, бледный и… обреченный. Случилось это уже несколько часов спустя. Мишель, говорит, демонстративно направил пистолет в воздух, прокричав до того: «Я в этого дурака стрелять не буду!». Мартынов же долго целился и, когда спустил курок, попал Лермонтову точно в грудь, отчего наш поручик упал на землю и еще долго лежал, истекая кровью, покуда Глебов не вернулся с врачом, которого привез из самого Пятигорска. После того, как смерть зафиксировали, Мартынова и его секунданта взяли под стражу, также арестовали Сашу Васильчикова, который назвался секундантом Мишеля вместо Трубецкого, и без того находящегося в немилости у царя. Меня и Сережу тоже, конечно, допрашивали, но быстро отпустили, ведь другие подтвердили, что дуэли мы не видели.
Лев замолчал. Уваров сидел, рассеянно глядя на кольцо в своей руке, потом, собравшись с мыслями, спросил:
– Он говорил, почему решил передать это кольцо мне?
– Как он выразился, ты менее всех привязан к здешним местам «багажом» из родных и близких, из наследств, титулов и обязательств перед родиной.
– Постой… Я полагал, Мишель просил меня всего лишь… всего лишь передать кольцо кому-то… капитану парохода… не знаю…
Взгляды Льва и Петра Алексеевича встретились.
– Мишель сказал, что ты можешь распорядиться кольцом, как пожелаешь, – мягко произнес Пушкин. – Оставить себе, передать капитану парохода… или же воспользоваться им. Решать только тебе.
– А ты сам? – спросил Уваров. – Если бы я сейчас отдал кольцо тебе, ты бы уехал?
– Нет, не уехал бы. Но у нас совершенно разные жизни, Петр, стоит ли их сравнивать? Подумай, чего желаешь ты сам, и прими решение – без спешки и чужих советов. Полагаю, Мишель только этого и хотел.
Затем они долго обсуждали дуэль и смерть Лермонтова; чем дальше, тем больше Петр Алексеевич укреплялся в мысли, что ссора с Мартыновым произошла не случайно – что Николай сам искал повод, чтобы вызвать Лермонтова на дуэль.
«Рисковал ли он? Пожалуй, что нет. Мишель не стрелял даже в де Баранта, Мартынова же он знал немало лет и относился к нему пусть снисходительно, но без злобы, и смерти его не желал… Вот и получается, что Мартынов ехал к горе Машук не для того, чтобы проучить шутника – а чтобы убить. Убить? За шутки? Нет, безусловно, тут было что-то еще…»
С отъездом Льва пустота все больше разъедала душу Уварова. Он не находил себе места, подолгу ворочался в кровати и не мог думать ни о чем другом, кроме смерти Лермонтова и о переданном ему кольце.
«Мне надо возвращаться в Петербург. Навестить Елизавету Алексеевну, узнать, что стало с другими участниками кружка… а дальше будет видно».
Кольцо масонов «жгло» подкладку кармана, но пока Уваров чувствовал, что не готов к этому решительному шагу. Тем более что Шотландия была мечтой Лермонтова, а не его.
«Возможно, после визита в Петербург что-то изменится», – подумал Петр Алексеевич.
Он уехал из Кисловодска через полторы недели, едва смог получить дорожные документы. Бок все еще болел, но оставаться на водах дольше было для Уварова немыслимо.
Его ждал Петербург – со смертью Лермонтова будто навсегда опустевший.
* * *
2018
Из-за того, что навигатор плохо понимал извилистые дороги между фьордами, мы сделали крюк в несколько километров и в итоге приехали на место с опозданием в полчаса. К моему удивлению, никакого дома тут не было, а была лишь пристань, где нас ждал Томас Бивитт собственной персоной, одетый в коричневое пальто и черную шляпу с широкими полями. Энергичный мужчина пятидесяти с небольшим лет, он нетерпеливо прогуливался по причалу, теребил свою седую бороду и что-то тихо приговаривал. На воде у пристани покачивалась небольшая моторная лодка.
Уваров отчасти понимал, почему высший свет так любит дуэли – все изнывают от скуки, и такое событие оживляет не только самих спорщиков, но и весь людской рой на долгие месяцы. Если же кто-то в итоге окажется убит, обсуждать это будут годами – как, собственно, и вышло с Александром Сергеевичем Пушкиным. Но что же заставляет двух русских офицеров целиться друг в друга на войне, где и без того хватает способов лишиться жизни, в чем-то даже более простых и доступных, нежели дуэль.
Но факт оставался фактом.
Уваров шумно выдохнул и спросил:
– Как это вышло? С кем он стрелялся и где?
– Стрелялся с Мартыновым, у подножия Машука.
– Постой-ка… С Мартыновым? Но они же всегда были дружны!
– Да, это так. Но, видимо, вечные подшучивания Мишеля утомили самодовольного «Вышеносова». Хотя, полагаю, одной обидой выстрел вчерашнему другу прямо в грудь не объяснишь, да-с…
– Ты полагаешь здесь… что-то большее? – осторожно уточнил Петр Алексеевич.
– Я полагаю, тебе надо выслушать меня и самому сделать выводы, – ответил Лев.
– Я весь внимание, – сказал Уваров.
Запоздало спохватившись, он с трудом поднялся на кровати и сел, свесив ноги.
– Ссора случилась 13 июня, вечером, в доме Верзилиных, – начал Лев. – Совпадение или нет, не знаю, но большую часть участников нашего кружка выслали из Пятигорска с разными поручениями, как будто не желая, чтобы вечером они были рядом с Мишелем. Из всех, помимо Лермонтова, были только я, Сережа Трубецкой да Саша Васильчиков.
– Теперь понятно, отчего Мишель выбрал Трубецкого, а не Монго.
– Непонятно, отчего не меня, – с некоторой долей обиды в голосе сказал Лев.
«Наверное, после трагедии, случившейся с Александром Сергеевичем, просто не хотел втягивать его младшего брата в какие-то сомнительные истории», – мелькнула в голове Уварова мысль.
– Впрочем, то был его выбор, и не мне судить его за это, – тут же оговорился Лев. – В общем, мы собрались в доме Верзилиных, дабы почтить память декабристов, ведь с того ужасного дня, когда состоялась несправедливая их казнь и началось стремительное погружение нашей родины в беспросветное мракобесие, минуло ровно 15 лет. Пусть, как я уже сказал, нас было всего четверо, но проигнорировать столь значимую дату кружок попросту не мог. Мишель сокрушался едва ли не больше всех. Куда, вопрошал он, скатились мы с этим новым, николаевским, режимом? Кто сможет и сможет ли вообще поднять нас с этого дна, или мы врастем в ил забвения навечно? Больше всего, помню, Мишеля ужасало – смирение наших современников с тем, что лучше быть не может. Подобное отношение порождало безразличие ко всему, что происходит вокруг, а безразличие есть даже не вялое течение жизни, а ее полное отсутствие… Сидя в самом углу зала на креслах, мы слушали пламенные речи Мишеля и дымили папиросами, когда пожаловал Мартынов. А ты ведь помнишь, как этот narcissique poseur (самовлюбленный позер, франц.) любил наряжаться в одежды горцев?
– Помню, конечно. Собственно, мнится мне, от этого же Мишель и начал над ним подтрунивать, именуя его – Аристократ-мартышка или просто Мартыш.
– Из-за этого, да. И вот он опять пришел в черкеске и с кинжалом до колена. Мишель, разумеется, не нашел сил смолчать. Впрочем, говорил он более нам, но Мартынов что-то услышал и подошел, недовольный, требовать объяснений. Мишель поначалу улыбался – его забавляло, когда Николай злился, он находил это потешным – но тогда Мартынов не ограничился бурчанием. С красным от гнева лицом он сквозь зубы процедил: «Знал бы о вашем сборище Бенкендорф, сидели бы уже на гауптвахте!» Лермонтова это вывело из себя, и он принялся подначивать Мартынова: «Ну так пойди и донеси!» Мишель делал это так громко, что смутил Николая, и тот нас покинул. Мы решили, что дело кончено, но, когда мы уже собирались по домам, Мартынов вернулся и отозвал Мишеля в сторону. Они о чем-то поговорили довольно холодно, и Николай убрался восвояси, а Мишель вернулся к нам. Трубецкой спросил, чего хотел Мартынов? Лермонтов ответил, что он хочет дуэли, и он, Мишель, собирается это желание удовлетворить. Мы наперебой принялись убеждать нашего поручика взять слово назад, чем только разозлили его и ничего не добились. Он просил Трубецкого стать его секундантом, и тот не отказал. На этом мы и расстались, чтобы два дня спустя отправиться в Шотландку – ты ведь тоже бывал с нами в этой колонии, в семи верстах от Пятигорска? – чтобы отобедать там в ресторане Анны Ивановны перед грядущей дуэлью…
Лев замялся – воспоминания о тех трагических событиях были все еще свежи в памяти – но все-таки нашел в себе силы продолжить:
– В тот день была ужасная погода. Мишель, пока мы были в пути, да и потом, когда трапезничали, много шутил и выглядел совершенно расслабленным. Когда Сережа Трубецкой спросил, отчего он совсем не переживает, Мишель сказал: «Не сомневаюсь, что все разрешится хорошо, мы с Мартыновым старые друзья». Да, у Верзилиных он, безусловно, погорячился, но теперь, два дня спустя, наверняка остыл и понял, что дело выеденного яйца не стоит. Нам так не казалось, но мы, конечно же, знали Николая не так хорошо, как Мишель, поэтому ему удалось несколько нас успокоить. Однако же перед тем, как покинуть трактир и отправиться на дуэль, Лермонтов отвел меня в сторону для разговора и просил в случае трагической развязки передать тебе это.
С этими словами Лев достал из кармана нечто блестящее и вложил Уварову в ладонь. Петр Алексеевич с недоумением уставился на странный дар Пушкина – золотое кольцо с надписью на латыни.
– Что это? – спросил Уваров.
Лев, с опаской покосившись в сторону двери, тихо сказал:
– Кольцо шотландских масонов.
– Но… откуда? – изумился Петр Алексеевич.
– Там же, в Шотландке, находится миссия протестантов, основанная представителями эдинбургской масонской ложи. Лермонтов познакомился с ними еще в первую свою ссылку на Кавказ и, насколько я знаю, вел переписку до самой второй ссылки. Вполне вероятно, это закончилось бы ничем, но, вернувшись на Кавказ, Мишель стал частым их гостем. Я знал о них, но и помыслить не мог, что Мишель условится с ними… о побеге.
– О побеге? – эхом повторил Уваров.
– Мишель не упоминал подробностей, – сказал Лев. – Но, как я понял из его короткого рассказа, они договорились помочь ему, а позже – и бабушке, уехать в Шотландию, да не просто уехать, а обзавестись там собственным хозяйством: по заверениям масонов, их влияния в Туманном Альбионе для подобного хватило бы с лихвой. Поэтому главной проблемой было покинуть Россию, но и здесь решение нашлось: пятнадцатого августа из Петергофского порта в Эдинбург отправляется пароход «Екатерина». Пропуском на борт служит это кольцо.
– А как же Елизавета Алексеевна?
– Мишель хотел вернуться в Петербург около двадцатого июля и обо всем ей рассказать. Он почему-то не сомневался, что бабушка поддержит его стремление покинуть Россию – наверное, потому, что прежде она поддерживала его во всем. Однако же Мартынов расстроил все планы… Назад в трактир вернулся только Трубецкой, бледный и… обреченный. Случилось это уже несколько часов спустя. Мишель, говорит, демонстративно направил пистолет в воздух, прокричав до того: «Я в этого дурака стрелять не буду!». Мартынов же долго целился и, когда спустил курок, попал Лермонтову точно в грудь, отчего наш поручик упал на землю и еще долго лежал, истекая кровью, покуда Глебов не вернулся с врачом, которого привез из самого Пятигорска. После того, как смерть зафиксировали, Мартынова и его секунданта взяли под стражу, также арестовали Сашу Васильчикова, который назвался секундантом Мишеля вместо Трубецкого, и без того находящегося в немилости у царя. Меня и Сережу тоже, конечно, допрашивали, но быстро отпустили, ведь другие подтвердили, что дуэли мы не видели.
Лев замолчал. Уваров сидел, рассеянно глядя на кольцо в своей руке, потом, собравшись с мыслями, спросил:
– Он говорил, почему решил передать это кольцо мне?
– Как он выразился, ты менее всех привязан к здешним местам «багажом» из родных и близких, из наследств, титулов и обязательств перед родиной.
– Постой… Я полагал, Мишель просил меня всего лишь… всего лишь передать кольцо кому-то… капитану парохода… не знаю…
Взгляды Льва и Петра Алексеевича встретились.
– Мишель сказал, что ты можешь распорядиться кольцом, как пожелаешь, – мягко произнес Пушкин. – Оставить себе, передать капитану парохода… или же воспользоваться им. Решать только тебе.
– А ты сам? – спросил Уваров. – Если бы я сейчас отдал кольцо тебе, ты бы уехал?
– Нет, не уехал бы. Но у нас совершенно разные жизни, Петр, стоит ли их сравнивать? Подумай, чего желаешь ты сам, и прими решение – без спешки и чужих советов. Полагаю, Мишель только этого и хотел.
Затем они долго обсуждали дуэль и смерть Лермонтова; чем дальше, тем больше Петр Алексеевич укреплялся в мысли, что ссора с Мартыновым произошла не случайно – что Николай сам искал повод, чтобы вызвать Лермонтова на дуэль.
«Рисковал ли он? Пожалуй, что нет. Мишель не стрелял даже в де Баранта, Мартынова же он знал немало лет и относился к нему пусть снисходительно, но без злобы, и смерти его не желал… Вот и получается, что Мартынов ехал к горе Машук не для того, чтобы проучить шутника – а чтобы убить. Убить? За шутки? Нет, безусловно, тут было что-то еще…»
С отъездом Льва пустота все больше разъедала душу Уварова. Он не находил себе места, подолгу ворочался в кровати и не мог думать ни о чем другом, кроме смерти Лермонтова и о переданном ему кольце.
«Мне надо возвращаться в Петербург. Навестить Елизавету Алексеевну, узнать, что стало с другими участниками кружка… а дальше будет видно».
Кольцо масонов «жгло» подкладку кармана, но пока Уваров чувствовал, что не готов к этому решительному шагу. Тем более что Шотландия была мечтой Лермонтова, а не его.
«Возможно, после визита в Петербург что-то изменится», – подумал Петр Алексеевич.
Он уехал из Кисловодска через полторы недели, едва смог получить дорожные документы. Бок все еще болел, но оставаться на водах дольше было для Уварова немыслимо.
Его ждал Петербург – со смертью Лермонтова будто навсегда опустевший.
* * *
2018
Из-за того, что навигатор плохо понимал извилистые дороги между фьордами, мы сделали крюк в несколько километров и в итоге приехали на место с опозданием в полчаса. К моему удивлению, никакого дома тут не было, а была лишь пристань, где нас ждал Томас Бивитт собственной персоной, одетый в коричневое пальто и черную шляпу с широкими полями. Энергичный мужчина пятидесяти с небольшим лет, он нетерпеливо прогуливался по причалу, теребил свою седую бороду и что-то тихо приговаривал. На воде у пристани покачивалась небольшая моторная лодка.