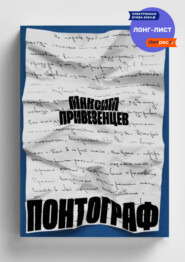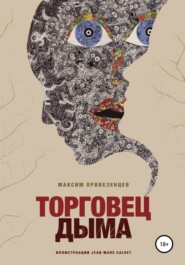По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шотландский ветер Лермонтова
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну как же? В стране до сих пор все решают царь и церковь…
– А. Ну да, – невесело согласился я. – И путь у нас действительно – особенный. Ни в одной другой стране такого не было.
– И не будет… – со вздохом докончил Чиж.
Мы замолчали, и я буквально ощутил тишину – настолько плотную, что ее, казалось, можно было пощупать.
Кто посещал вершины диких гор
В тот свежий час, когда садится день,
На западе светило видит взор
И на востоке близкой ночи тень,
Внизу туман, уступы и кусты,
Кругом всё горы чудной высоты,
Как после бури облака стоят
И странные верхи в лучах горят.
* * *
1842
В Петергофском порту было людно и шумно, пахло пряностями, рыбой и потом. К середине весны все вокруг словно обрело новую жизнь: грузчики шустро сновали туда-сюда, перетаскивая с места на место ящики, маленькие и не очень; даже мерины, впряженные в повозки, казалось, делают все играючи и с удовольствием. Даже капитаны судов, обыкновенно хмурые, теперь дымили трубками и взирали на этот огромный муравейник со снисходительными улыбками – как бы они ни любили большую воду, главной их целью всегда было достижение земли, и удовлетворение от выполненной миссии наполняло этих потертых жизнью морских волков.
Уваров, пробираясь через разномастную толпу, тоже невольно поймал себя на мысли, что тоже испытывает воодушевление. Да, безусловно, радоваться рано – в конце концов, он еще даже не ступил на палубу парохода – но, тем не менее, первые шаги на пути к цели были сделаны.
Уехать сразу после возвращения из Кисловодска Петру Алексеевичу не дали, да он, впрочем, и сам не слишком-то рвался. Во-первых, в нем был некоторый страх перед неизвестностью – все-таки Шотландия была для Уварова terra incognita, и он ранее даже не помышлял о том, чтобы уехать в страну гор и волынок. Во-вторых, Петра Алексеевича волновала судьба его соратников по кружку шестнадцати, которых он по возвращении из Кисловодска разыскивал с упорством следователя из Третьего отделения.
Жерве, к превеликому сожалению друзей и родных, умер следом за Лермонтовым. Причем умер в страшных муках из-за ранения, вызвавшего тяжелую болезнь, и два последних месяца провел, практически не вставая с кровати. Изначально Жерве поднимался, спускался во двор; потом его сил хватало, только чтобы дойти до окна и выглянуть наружу; в конце концов бедняга не мог повернуть головы и изнывал без дозы морфия. Ужасный, трагический конец.
Сергей Васильевич Долгорукий убыл за границу незадолго до дуэли Лермонтова и де Баранта. Куда именно – одному Богу известно; писем от эмигранта никто из его прежних товарищей по кружку не получал.
Однофамилец Сергея Васильевича, Александр Николаевич Долгорукий, после возвращения с Кавказа с полгода жил затворником в Царском селе, покуда в начале февраля не был убит на дуэли однополчанином по гусарскому полку, князем Яшвилем. Поединок проходил без секундантов, и на том, судя по всему, настоял сам Александр Николаевич, который после смерти Лермонтова казался лишь бледной тенью самого себя и, по мнению многих сослуживцев, если не искал смерти, то точно был не против с ней повстречаться.
Князь Георгий Георгиевич Гагарин, Фредерикс, Голицын, Валуев, Паскевич, Васильчиков и Браницкий остались воевать на Кавказе, не желая, по их же собственным признаниям, погружаться в пучину слухов, связанных с дуэлью Мишеля и Мартынова. Шувалов до последнего оставался с ними и принимал участие в делах против горцев, но из-за ранения в начале марта вышел в отставку и планировал по завершению лечения уехать за рубеж.
Другой Гагарин, Иван Сергеевич, с 1838-го находился в Париже. Единственным напоминанием о нем, стало письмо к Монго, в котором Гагарин сетовал на несправедливую судьбу, столь мало отмерившую такому таланту, как Лермонтов.
Самым запоминающимся событием, которое было связано с кружком шестнадцати, стала встреча Уварова с Монго и Трубецким в первых числах марта. Столыпин в феврале уволился со службы, а секунданту Лермонтова в роковой дуэли царь «милостиво дозволил» приехать в отпуск в Петербург. Уваров к этому моменту уже знал, что Глебов и Мартынов не стали рассказывать следствию о настоящей роли Трубецкого; из всех показаний следовало, что Сергей во время поединка находился в трактире с Пушкиным и Васильчиковым.
По предложению Уварова встретиться решили в его квартире. Монго и Трубецкой приехали вместе, на одном экипаже; усевшись на кухне, стали пить чай.
– Ну что же вы, мон шер, не поздравляете меня с долгожданным увольнением? – закуривая папиросу, спросил Столыпин.
– Я не видел тебя столько времени, поэтому не знаю даже, как реагировать на эти вести, – признался Уваров. – Если для тебя это – радость, то я тоже, конечно, порадуюсь с тобой.
– И я рад, – сказал Трубецкой, отпив из чашки. – Только вот не совсем понимаю, чем ты хочешь заняться на вольных хлебах?
– Уж точно не оставаться в Петербурге, – ухмыльнулся Столыпин.
Уваров посмотрел на друга сквозь клубы дыма. Табак у Монго в папиросе был ароматный, с цитрусовой ноткой, явно привозной, но тогда Петра Алексеевича запахи волновали едва ли.
– Куда же ты планируешь отправиться? – спросил он у старого знакомца.
Столыпин покосился в его сторону, потом сказал с улыбкой и как будто чуть виновато:
– Всегда мечтал пожить в Париже. Пожалуй, сейчас самое время отправиться туда.
– Чем же тебе так не люб Петербург? – деланно удивился Трубецкой.
– Как будто ты сам не знаешь, – прищурившись, спросил Монго. – Как будто вы оба не чувствуете пустоту этих улиц… не чувствуете, что они стали для нас чужими, даже самые знакомые? Я гостил вчера у Елизаветы Алексеевны… как она сдала, боже мой… и вот мы с ней говорили о Мишеле, и мне в какой-то момент показалось, что трагедия случилась с ним давным-давно, будто бы в прошлой моей жизни… а ведь прошло чуть более полугода!..
Он распалялся прямо на глазах, и Уваров наблюдал за этой метаморфозой с замиранием сердца – ведь все, высказанное Столыпиным, практически совпадало с тем, что испытывал сам Петр Алексеевич. Не раз и не два он искал на улицах Петербурга хотя бы призрак той магии, которая здесь обитала при жизни Лермонтова, и не находил. Казалось, волшебство ушло вслед за творцом, оставшись лишь в его прозе и поэзии, которую после смерти Мишеля, кажется, читали и любили еще больше, чем прежде.
– Ты хотя бы не стоял рядом с ним, распростертым на земле, и не смотрел, как струи дождя смывают в грязь кровь с его сорочки, – с горестной усмешкой сказал Трубецкой. – Ах, как же я хотел в тот миг наброситься на этого Мартынова – за то, что выстрелил, негодяй, да так точно, так убийственно!.. Тут, в Петербурге, многие любят сравнивать дуэли Пушкина с Дантесом и эту, но между ними – пропасть! Дантес никогда не был дружен с Александром Сергеевичем, тогда как Лермонтов с Мартыновым были старые знакомцы!
– Мне казалось, всего ближе – дуэль с де Барантом, там тоже русский и француз, тоже из-за дамы, но без кровавого финала, – заметил Монго.
– И я с тобой согласен, милый друг, – кивнул Трубецкой.
– О чем мы вообще? – вдруг спросил Уваров.
Две пары глаз тут же недоуменно уставились на него.
– Так ли важно, что думают другие люди, с чем сравнивают последнюю дуэль Мишеля? – продолжил Петр Алексеевич, хмуро посмотрев сначала на одного, потом на другого. – Главное, что два ярчайших поэта убиты с разницей в четыре года, и второй из покойных гениев – наш с вами друг и единомышленник.
– Ты прав, мон шер, – кивнул Столыпин. – В сравнениях нет никакого смысла.
Уваров повернулся к Трубецкому, который равнодушно рассматривал содержимое своей чашки.
– Лев Пушкин не рассказал мне подробностей… как я понял, он уехал из Пятигорска, едва закончился его допрос.
– Да, это так, – кивнул Сергей. – Пушкина и меня быстро отпустили, а Глебова, Васильчикова и Мартынова взяли под стражу. К чести всех перечисленных, докладывать, что я был секундантом на дуэли, никто не стал, иначе это крайне усложнило бы мою участь; вместо меня под арест отправился Саша. Впрочем, интересно тут другое: буквально на следующий день после убийства Лермонтова Пятигорск наводнили жандармы. Казалось, они повсюду – вынюхивают, допрашивают, следят… Сначала мне почудилось, будто царь настолько дорожил Мишелем, что решил расследовать его смерть… Однако вскоре мы поняли, что главная цель всего этого действа – создать видимость расследования, а факты записать так, как угодно будет Бенкендорфу и царю.
Уваров нахмурился.
– Что ты имеешь в виду?
– В официальном рапорте нет ни слова о том, что Мишель, которому надлежало стрелять первым, отправил пулю в небо, сказав, что целить в Мартынова не станет. Умалчивание сего обстоятельства в корне меняет представление о случившемся: у человека стороннего, не знакомого с тем и другим участником дуэли, может сложиться ложное впечатление, что Мартынов защищал свою жизнь, но на самом деле ей ничего не угрожало. Напротив – после выстрела Лермонтова в небо стало понятно, что он не хочет смерти старому товарищу. Однако же, к сожалению для нашего любимого поручика, старый «товарищ» желал смерти ему.
Ненадолго наступившую тишину нарушал только шум ветра за окном. Уваров, рассеянно глядя перед собой, вытащил из ящика папиросу и закурил. Рассказанное Трубецким лишь подтверждало догадки Льва Пушкина и самого Петра Алексеевича – царь имел к дуэли Лермонтова с Мартыновым самое непосредственное отношение.
«И, если Мартынова в итоге оправдают, это будет последним доказательством сговора против поэта…»
– А. Ну да, – невесело согласился я. – И путь у нас действительно – особенный. Ни в одной другой стране такого не было.
– И не будет… – со вздохом докончил Чиж.
Мы замолчали, и я буквально ощутил тишину – настолько плотную, что ее, казалось, можно было пощупать.
Кто посещал вершины диких гор
В тот свежий час, когда садится день,
На западе светило видит взор
И на востоке близкой ночи тень,
Внизу туман, уступы и кусты,
Кругом всё горы чудной высоты,
Как после бури облака стоят
И странные верхи в лучах горят.
* * *
1842
В Петергофском порту было людно и шумно, пахло пряностями, рыбой и потом. К середине весны все вокруг словно обрело новую жизнь: грузчики шустро сновали туда-сюда, перетаскивая с места на место ящики, маленькие и не очень; даже мерины, впряженные в повозки, казалось, делают все играючи и с удовольствием. Даже капитаны судов, обыкновенно хмурые, теперь дымили трубками и взирали на этот огромный муравейник со снисходительными улыбками – как бы они ни любили большую воду, главной их целью всегда было достижение земли, и удовлетворение от выполненной миссии наполняло этих потертых жизнью морских волков.
Уваров, пробираясь через разномастную толпу, тоже невольно поймал себя на мысли, что тоже испытывает воодушевление. Да, безусловно, радоваться рано – в конце концов, он еще даже не ступил на палубу парохода – но, тем не менее, первые шаги на пути к цели были сделаны.
Уехать сразу после возвращения из Кисловодска Петру Алексеевичу не дали, да он, впрочем, и сам не слишком-то рвался. Во-первых, в нем был некоторый страх перед неизвестностью – все-таки Шотландия была для Уварова terra incognita, и он ранее даже не помышлял о том, чтобы уехать в страну гор и волынок. Во-вторых, Петра Алексеевича волновала судьба его соратников по кружку шестнадцати, которых он по возвращении из Кисловодска разыскивал с упорством следователя из Третьего отделения.
Жерве, к превеликому сожалению друзей и родных, умер следом за Лермонтовым. Причем умер в страшных муках из-за ранения, вызвавшего тяжелую болезнь, и два последних месяца провел, практически не вставая с кровати. Изначально Жерве поднимался, спускался во двор; потом его сил хватало, только чтобы дойти до окна и выглянуть наружу; в конце концов бедняга не мог повернуть головы и изнывал без дозы морфия. Ужасный, трагический конец.
Сергей Васильевич Долгорукий убыл за границу незадолго до дуэли Лермонтова и де Баранта. Куда именно – одному Богу известно; писем от эмигранта никто из его прежних товарищей по кружку не получал.
Однофамилец Сергея Васильевича, Александр Николаевич Долгорукий, после возвращения с Кавказа с полгода жил затворником в Царском селе, покуда в начале февраля не был убит на дуэли однополчанином по гусарскому полку, князем Яшвилем. Поединок проходил без секундантов, и на том, судя по всему, настоял сам Александр Николаевич, который после смерти Лермонтова казался лишь бледной тенью самого себя и, по мнению многих сослуживцев, если не искал смерти, то точно был не против с ней повстречаться.
Князь Георгий Георгиевич Гагарин, Фредерикс, Голицын, Валуев, Паскевич, Васильчиков и Браницкий остались воевать на Кавказе, не желая, по их же собственным признаниям, погружаться в пучину слухов, связанных с дуэлью Мишеля и Мартынова. Шувалов до последнего оставался с ними и принимал участие в делах против горцев, но из-за ранения в начале марта вышел в отставку и планировал по завершению лечения уехать за рубеж.
Другой Гагарин, Иван Сергеевич, с 1838-го находился в Париже. Единственным напоминанием о нем, стало письмо к Монго, в котором Гагарин сетовал на несправедливую судьбу, столь мало отмерившую такому таланту, как Лермонтов.
Самым запоминающимся событием, которое было связано с кружком шестнадцати, стала встреча Уварова с Монго и Трубецким в первых числах марта. Столыпин в феврале уволился со службы, а секунданту Лермонтова в роковой дуэли царь «милостиво дозволил» приехать в отпуск в Петербург. Уваров к этому моменту уже знал, что Глебов и Мартынов не стали рассказывать следствию о настоящей роли Трубецкого; из всех показаний следовало, что Сергей во время поединка находился в трактире с Пушкиным и Васильчиковым.
По предложению Уварова встретиться решили в его квартире. Монго и Трубецкой приехали вместе, на одном экипаже; усевшись на кухне, стали пить чай.
– Ну что же вы, мон шер, не поздравляете меня с долгожданным увольнением? – закуривая папиросу, спросил Столыпин.
– Я не видел тебя столько времени, поэтому не знаю даже, как реагировать на эти вести, – признался Уваров. – Если для тебя это – радость, то я тоже, конечно, порадуюсь с тобой.
– И я рад, – сказал Трубецкой, отпив из чашки. – Только вот не совсем понимаю, чем ты хочешь заняться на вольных хлебах?
– Уж точно не оставаться в Петербурге, – ухмыльнулся Столыпин.
Уваров посмотрел на друга сквозь клубы дыма. Табак у Монго в папиросе был ароматный, с цитрусовой ноткой, явно привозной, но тогда Петра Алексеевича запахи волновали едва ли.
– Куда же ты планируешь отправиться? – спросил он у старого знакомца.
Столыпин покосился в его сторону, потом сказал с улыбкой и как будто чуть виновато:
– Всегда мечтал пожить в Париже. Пожалуй, сейчас самое время отправиться туда.
– Чем же тебе так не люб Петербург? – деланно удивился Трубецкой.
– Как будто ты сам не знаешь, – прищурившись, спросил Монго. – Как будто вы оба не чувствуете пустоту этих улиц… не чувствуете, что они стали для нас чужими, даже самые знакомые? Я гостил вчера у Елизаветы Алексеевны… как она сдала, боже мой… и вот мы с ней говорили о Мишеле, и мне в какой-то момент показалось, что трагедия случилась с ним давным-давно, будто бы в прошлой моей жизни… а ведь прошло чуть более полугода!..
Он распалялся прямо на глазах, и Уваров наблюдал за этой метаморфозой с замиранием сердца – ведь все, высказанное Столыпиным, практически совпадало с тем, что испытывал сам Петр Алексеевич. Не раз и не два он искал на улицах Петербурга хотя бы призрак той магии, которая здесь обитала при жизни Лермонтова, и не находил. Казалось, волшебство ушло вслед за творцом, оставшись лишь в его прозе и поэзии, которую после смерти Мишеля, кажется, читали и любили еще больше, чем прежде.
– Ты хотя бы не стоял рядом с ним, распростертым на земле, и не смотрел, как струи дождя смывают в грязь кровь с его сорочки, – с горестной усмешкой сказал Трубецкой. – Ах, как же я хотел в тот миг наброситься на этого Мартынова – за то, что выстрелил, негодяй, да так точно, так убийственно!.. Тут, в Петербурге, многие любят сравнивать дуэли Пушкина с Дантесом и эту, но между ними – пропасть! Дантес никогда не был дружен с Александром Сергеевичем, тогда как Лермонтов с Мартыновым были старые знакомцы!
– Мне казалось, всего ближе – дуэль с де Барантом, там тоже русский и француз, тоже из-за дамы, но без кровавого финала, – заметил Монго.
– И я с тобой согласен, милый друг, – кивнул Трубецкой.
– О чем мы вообще? – вдруг спросил Уваров.
Две пары глаз тут же недоуменно уставились на него.
– Так ли важно, что думают другие люди, с чем сравнивают последнюю дуэль Мишеля? – продолжил Петр Алексеевич, хмуро посмотрев сначала на одного, потом на другого. – Главное, что два ярчайших поэта убиты с разницей в четыре года, и второй из покойных гениев – наш с вами друг и единомышленник.
– Ты прав, мон шер, – кивнул Столыпин. – В сравнениях нет никакого смысла.
Уваров повернулся к Трубецкому, который равнодушно рассматривал содержимое своей чашки.
– Лев Пушкин не рассказал мне подробностей… как я понял, он уехал из Пятигорска, едва закончился его допрос.
– Да, это так, – кивнул Сергей. – Пушкина и меня быстро отпустили, а Глебова, Васильчикова и Мартынова взяли под стражу. К чести всех перечисленных, докладывать, что я был секундантом на дуэли, никто не стал, иначе это крайне усложнило бы мою участь; вместо меня под арест отправился Саша. Впрочем, интересно тут другое: буквально на следующий день после убийства Лермонтова Пятигорск наводнили жандармы. Казалось, они повсюду – вынюхивают, допрашивают, следят… Сначала мне почудилось, будто царь настолько дорожил Мишелем, что решил расследовать его смерть… Однако вскоре мы поняли, что главная цель всего этого действа – создать видимость расследования, а факты записать так, как угодно будет Бенкендорфу и царю.
Уваров нахмурился.
– Что ты имеешь в виду?
– В официальном рапорте нет ни слова о том, что Мишель, которому надлежало стрелять первым, отправил пулю в небо, сказав, что целить в Мартынова не станет. Умалчивание сего обстоятельства в корне меняет представление о случившемся: у человека стороннего, не знакомого с тем и другим участником дуэли, может сложиться ложное впечатление, что Мартынов защищал свою жизнь, но на самом деле ей ничего не угрожало. Напротив – после выстрела Лермонтова в небо стало понятно, что он не хочет смерти старому товарищу. Однако же, к сожалению для нашего любимого поручика, старый «товарищ» желал смерти ему.
Ненадолго наступившую тишину нарушал только шум ветра за окном. Уваров, рассеянно глядя перед собой, вытащил из ящика папиросу и закурил. Рассказанное Трубецким лишь подтверждало догадки Льва Пушкина и самого Петра Алексеевича – царь имел к дуэли Лермонтова с Мартыновым самое непосредственное отношение.
«И, если Мартынова в итоге оправдают, это будет последним доказательством сговора против поэта…»