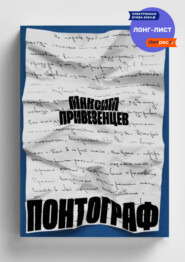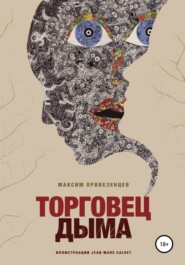По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шотландский ветер Лермонтова
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как думаете, это позволяло Лермонтову быть свободным? – спросил я.
– Если ты понимаешь под свободой некое «райское состояние», в котором не хочется ничего менять, потому что оно и так идеально, то нет. Он все время находился в поиске, но просто однажды решил, что окружающим об этом знать не следует, и закрылся. Внутри тех стен, которыми Лермонтов отгородился, он был единоличным хозяином, и это, с одной стороны, было крайне удобно… с другой, порой ему становилось невыносимо скучно, и тогда он выбирался в мир, чтобы развлечься… и нередко от этого страдал – когда натыкался на людское непонимание.
– А в чем, по-вашему, главная причина бегства Лермонтова от общества?
– Полагаю, он понял, что любые привязанности – дружба, любовь к близким и женщинам – лишь отвлекают его от постижения мира. Все эти отождествления – национальные, классовые, религиозные, партийные, прочие… Они нужны в первую очередь идиотам, которые не имеют других точек опоры, которые привязываются этими нитями к окружающей действительности и потом до самой смерти болтаются на них, как марионетки.
– Выходит, Лермонтов полагал, что у него было некое сакральное знание о людях, в частности – о российском светском обществе, о Боге, и он постоянно стремился расширить это знание?
– Не совсем так. Безусловно, Лермонтов, как и все русские, был уверен, что мир пребывает во зле, а высший бог отправляет вам посланцев, чтобы дать знание, как освободиться от тирана. При этом абсолютное большинство русских использует любую возможность, чтобы только не знать способов это сделать. И это стремление в вас сильнее даже, чем стремление ничего не делать… до тех пор пока из-за этого бездействия вы в результате действий власть имущих не оказываетесь у края пропасти и не видите, как туда сваливаются ваши соотечественники. Тут у вас в голове наконец-то что-то щелкает, и вы реагируете на происходящее революцией… а потом все снова возвращается на круги своя, все повторяется снова и снова… Лермонтов же, напротив, пытался высшее знание постичь, и это вело его к личной революции против общества. Стать настоящим бунтарем он просто не успел – восемь вызовов на дуэль много даже для русской рулетки – но, проживи Михаил Юрьевич еще хотя бы лет двадцать, мы бы узрели его во всей красе… Хотя сомневаюсь, что это помогло бы что-то кардинально изменить. Слишком глубоко в русских сидит вера в то, что к упадку приводит лишь неудачное стечение обстоятельств и что перевороты и бунты – лучший способ все исправить. Но у нас в Шотландии не было революций не благодаря удаче, мы их просто не устраивали. И в этом нет никакого везения. Мы находили компромиссы, а не ломали все до основания, передавая власть из рук обнаглевших негодяев в руки негодяев голодных.
– В таком случае вдвойне интересно, мог ли Лермонтов кардинально изменить свою жизнь, окажись он в Шотландии – спокойной, миролюбивой, безмятежной?
– Увы, изменить свои правила жизни практически невозможно. Особенно сложно, если в зрелом возрасте переходишь с одного языка на другой. Самое страшное… – Лорд сделал солидный глоток виски. – Самое страшное, что, меняя правила в середине жизни, Лермонтов мог оказаться в конце в чужой или, точней, в начале своей собственной, и следующие несколько лет попросту потерял бы на эту внутреннюю перестройку.
– То есть Лермонтову совершенно нельзя было помочь в его фатализме?
– Безусловно, нет. Лермонтов, как и чуть раньше Пушкин, следовал своим правилам, подспудно стремясь к смерти. И, что самое интересное, в отличие от Александра Сергеевича, Лермонтов эти правила даже любил.
Я медленно кивнул. Чем больше я читал про Михаила Юрьевича, чем больше узнавал о нем, тем сильней укреплялся в мысли, что всю сознательную жизнь он стремился к смерти. Возможно, Лермонтов и не хотел лишаться жизни, но, определенно, ему нравилось прогуливаться на самой границе бытия и небытия.
– А в чем, по-вашему, секрет эмоционального воздействия наследия Лермонтова?
– Думаю, в первую очередь – в сюжетах. По Аристотелю, трагедия всегда о том, какие страшные вещи случаются с теми, кто лучше или хуже нас, но хуже всего от осознания, что все это могло бы случиться с каждым. Событие, в общем и целом, важнее действующего лица, хотя многие заурядные авторы попросту забывают, что нужно наделить героев такими личностными характеристиками, чтобы они влекли к себе события, формируя тем самым сюжет. Лермонтову это прекрасно удавалось, как немногим. Его герои всегда притягивали к себе события, словно магнит. При этом читатель сопереживал им, поскольку чувствовал их эмоции и мог представить себя на их месте.
– Наверное, в этом и разница между авторами, вроде меня, и гениями, вроде Лермонтова: для меня литература – это больше ремесло, чем искрометное вдохновение…
– Да, вероятно, для выживания в такой ипостаси природа не наделила вас талантом. Талант стремится вынести себя для другого, а значит, стать чужим себе самому. А это лежит за областью сознания. Такому не научишь в университете, это либо есть, либо нет… Хотя в современных университетах Великобритании, к сожалению, уже не учат и более примитивным вещам…
Он устало вздохнул и, положил сигару в пепельницу, сказал:
– Ужасная метаморфоза. В позапрошлом веке университеты были, как мой замок – настоящей твердыней, с четкой иерархией, с дисциплиной… Сейчас же университеты – это шапито: есть стены и престижное, пафосное название, но что внутри? Свадьбы, встречи выпускников… Университеты сдаются, как ночные клубы, чтобы оплатить расходы на содержание.
Мне сразу вспомнился современный Михаил Юрьевич, который спасал усадьбу Середниково таким же печальным способом.
– Раньше это были храмы науки, – продолжал Эндрю, – и студиозы жили без удобств в крошечных кельях; сейчас происходящее напоминает какое-то шоу, дешевую театральную постановку. Те же балы лермонтовских времен, только в современной обертке. И откуда взяться новым самородкам?.. Впрочем, наверное, это волнует только таких стариков, как я. Молодые любят шоу… а мы живем прошлым. Тем, что было, но чего уже нет. А молодым неважно, что случилось вчера, их волнует только завтра, и в этом их сила.
– Сила? По мне, так это, напротив, слабость.
– Отчего же?
– Знание истории позволяет определить будущее.
– Это вздор, Максим. Прошлое ментально и актуализируется в конкретной голове в конкретный момент.
– Довольно странно слышать подобное от человека, у которого такая обширная библиотека. Я обратил внимание, что у вас в библиотеке есть полное собрание «Иллюстрированных лондонских новостей», 100 лет в 161 томе. История вашего замка. Множество других книг, посвященных самым разным эпохам. Мало кто обладает подобным «хранилищем» истории. Разве вы не ощущаете себя ее уникальным собственником?
– История ничья, мой друг, – с улыбкой сказал Эндрю. – Это она – мой собственник, а не я ее. Перефразируя Шарля де Монталамбера, вы можете не заниматься историей, она все равно занимается вами.
Лорд ненадолго задумался, а потом продолжил:
– Понимаешь, настоящая история и то, что написано на страницах всех этих книг, может разительно отличаться. Количество правды зависит только от того, насколько она, эта правда, была выгодна авторам. Довольно глупо ориентироваться на ложь при планировании будущего, не находишь? При этом я считаю правду атавизмом. Она не нужна для жизни. Правда – удел безумцев. Но о ней почему-то вспоминают в момент смерти.
Чиж украдкой зевнул. Это, судя по всему, не укрылось от лорда.
– Ладно. Вы с дороги, я тоже немного подустал, – сказал Эндрю. – Пойдемте, я провожу вас в гостевой домик.
Он допил виски, поставил пустой стакан на стол и встал; мы с Чижом последовали его примеру. Пока брели по коридору обратно к выходу, я обдумывал слова лорда. Удивительно, сколь многих тем мы коснулись за столь короткий срок. Учитывая нашу усталость, я решил, что сейчас ни к каким дельным выводам все равно не приду, и потому не стал себя мучить. Уже прощаясь с Эндрю, я сказал:
– Спасибо. Это была крайне интересная беседа. Я, признаться, даже не думал, что первый же вечер в Шотландии подарит мне такого чудесного собеседника.
– Не за что, Максим, – ответил Эндрю. – Главное – не бросай своих поисков. Вечно пытаться заглушить отчаянную жажду познания куда лучше, чем долгие годы плыть по течению. И не забывай: закостеневший мозг уже не оживишь.
– Почти как с сигарой, – заметил я. – Если она высохла, из нее ушел вкус. Увлажнить ее можно, но вернуть вкус уже не получится…
Эндрю пожелал нам доброй ночи и ушел, а мы стали готовиться ко сну. Гостевой домик явно построили совсем недавно, потому что ничего общего с замком он не имел – ни тебе картин на окнах, ни гобеленов, ни другой атрибутики… С другой стороны, к двум часам ночи нам было уже не до изысков – лишь бы упасть на что-то более-менее мягкое и закрыть глаза. Хотя я был настроен еще какое-то время провести за путевым дневником, чтобы потом не забыть каких-то деталей сегодняшнего дня – в особенности тех, что касались разговора в библиотеке.
– Макс, а Лермонтов говорил по-английски? – спросил Чиж, когда мы уже лежали в койках.
Я не стал напоминать про Вальтера Скотта, горячо обожаемого Михаилом Юрьевичем, и просто ответил на вопрос:
– Да, говорил. Кроме того, владел французским, немецким, латынью… и азербайджанским. Может, еще какие-то знал, не помню…
– Азербайджанским? – переспросил Вадим, глядя, как я вожу пальцем по экрану планшета.
– Ага. Он считал его не менее необходимым в Азии, чем французский – в Европе.
– Чудной он такой был, этот Лермонтов… – буркнул Чиж и захрапел.
– Чудной – не то слово… – тихо сказал я. – И очень, слишком сложный…
Холодной буквой трудно объяснить
Боренье дум. Нет звуков у людей
Довольно сильных, чтоб изобразить
Желание блаженства, пыл страстей…
* * *
1838
– Письмо вам, из самого Петерсбурга! – звонко воскликнул мальчишка, когда Уваров открыл ему дверь.
– Откуда? – пробормотал Петр Алексеевич, удивленный.
«Неужто Монго объявился?» – мелькнула шальная мысль.
– Если ты понимаешь под свободой некое «райское состояние», в котором не хочется ничего менять, потому что оно и так идеально, то нет. Он все время находился в поиске, но просто однажды решил, что окружающим об этом знать не следует, и закрылся. Внутри тех стен, которыми Лермонтов отгородился, он был единоличным хозяином, и это, с одной стороны, было крайне удобно… с другой, порой ему становилось невыносимо скучно, и тогда он выбирался в мир, чтобы развлечься… и нередко от этого страдал – когда натыкался на людское непонимание.
– А в чем, по-вашему, главная причина бегства Лермонтова от общества?
– Полагаю, он понял, что любые привязанности – дружба, любовь к близким и женщинам – лишь отвлекают его от постижения мира. Все эти отождествления – национальные, классовые, религиозные, партийные, прочие… Они нужны в первую очередь идиотам, которые не имеют других точек опоры, которые привязываются этими нитями к окружающей действительности и потом до самой смерти болтаются на них, как марионетки.
– Выходит, Лермонтов полагал, что у него было некое сакральное знание о людях, в частности – о российском светском обществе, о Боге, и он постоянно стремился расширить это знание?
– Не совсем так. Безусловно, Лермонтов, как и все русские, был уверен, что мир пребывает во зле, а высший бог отправляет вам посланцев, чтобы дать знание, как освободиться от тирана. При этом абсолютное большинство русских использует любую возможность, чтобы только не знать способов это сделать. И это стремление в вас сильнее даже, чем стремление ничего не делать… до тех пор пока из-за этого бездействия вы в результате действий власть имущих не оказываетесь у края пропасти и не видите, как туда сваливаются ваши соотечественники. Тут у вас в голове наконец-то что-то щелкает, и вы реагируете на происходящее революцией… а потом все снова возвращается на круги своя, все повторяется снова и снова… Лермонтов же, напротив, пытался высшее знание постичь, и это вело его к личной революции против общества. Стать настоящим бунтарем он просто не успел – восемь вызовов на дуэль много даже для русской рулетки – но, проживи Михаил Юрьевич еще хотя бы лет двадцать, мы бы узрели его во всей красе… Хотя сомневаюсь, что это помогло бы что-то кардинально изменить. Слишком глубоко в русских сидит вера в то, что к упадку приводит лишь неудачное стечение обстоятельств и что перевороты и бунты – лучший способ все исправить. Но у нас в Шотландии не было революций не благодаря удаче, мы их просто не устраивали. И в этом нет никакого везения. Мы находили компромиссы, а не ломали все до основания, передавая власть из рук обнаглевших негодяев в руки негодяев голодных.
– В таком случае вдвойне интересно, мог ли Лермонтов кардинально изменить свою жизнь, окажись он в Шотландии – спокойной, миролюбивой, безмятежной?
– Увы, изменить свои правила жизни практически невозможно. Особенно сложно, если в зрелом возрасте переходишь с одного языка на другой. Самое страшное… – Лорд сделал солидный глоток виски. – Самое страшное, что, меняя правила в середине жизни, Лермонтов мог оказаться в конце в чужой или, точней, в начале своей собственной, и следующие несколько лет попросту потерял бы на эту внутреннюю перестройку.
– То есть Лермонтову совершенно нельзя было помочь в его фатализме?
– Безусловно, нет. Лермонтов, как и чуть раньше Пушкин, следовал своим правилам, подспудно стремясь к смерти. И, что самое интересное, в отличие от Александра Сергеевича, Лермонтов эти правила даже любил.
Я медленно кивнул. Чем больше я читал про Михаила Юрьевича, чем больше узнавал о нем, тем сильней укреплялся в мысли, что всю сознательную жизнь он стремился к смерти. Возможно, Лермонтов и не хотел лишаться жизни, но, определенно, ему нравилось прогуливаться на самой границе бытия и небытия.
– А в чем, по-вашему, секрет эмоционального воздействия наследия Лермонтова?
– Думаю, в первую очередь – в сюжетах. По Аристотелю, трагедия всегда о том, какие страшные вещи случаются с теми, кто лучше или хуже нас, но хуже всего от осознания, что все это могло бы случиться с каждым. Событие, в общем и целом, важнее действующего лица, хотя многие заурядные авторы попросту забывают, что нужно наделить героев такими личностными характеристиками, чтобы они влекли к себе события, формируя тем самым сюжет. Лермонтову это прекрасно удавалось, как немногим. Его герои всегда притягивали к себе события, словно магнит. При этом читатель сопереживал им, поскольку чувствовал их эмоции и мог представить себя на их месте.
– Наверное, в этом и разница между авторами, вроде меня, и гениями, вроде Лермонтова: для меня литература – это больше ремесло, чем искрометное вдохновение…
– Да, вероятно, для выживания в такой ипостаси природа не наделила вас талантом. Талант стремится вынести себя для другого, а значит, стать чужим себе самому. А это лежит за областью сознания. Такому не научишь в университете, это либо есть, либо нет… Хотя в современных университетах Великобритании, к сожалению, уже не учат и более примитивным вещам…
Он устало вздохнул и, положил сигару в пепельницу, сказал:
– Ужасная метаморфоза. В позапрошлом веке университеты были, как мой замок – настоящей твердыней, с четкой иерархией, с дисциплиной… Сейчас же университеты – это шапито: есть стены и престижное, пафосное название, но что внутри? Свадьбы, встречи выпускников… Университеты сдаются, как ночные клубы, чтобы оплатить расходы на содержание.
Мне сразу вспомнился современный Михаил Юрьевич, который спасал усадьбу Середниково таким же печальным способом.
– Раньше это были храмы науки, – продолжал Эндрю, – и студиозы жили без удобств в крошечных кельях; сейчас происходящее напоминает какое-то шоу, дешевую театральную постановку. Те же балы лермонтовских времен, только в современной обертке. И откуда взяться новым самородкам?.. Впрочем, наверное, это волнует только таких стариков, как я. Молодые любят шоу… а мы живем прошлым. Тем, что было, но чего уже нет. А молодым неважно, что случилось вчера, их волнует только завтра, и в этом их сила.
– Сила? По мне, так это, напротив, слабость.
– Отчего же?
– Знание истории позволяет определить будущее.
– Это вздор, Максим. Прошлое ментально и актуализируется в конкретной голове в конкретный момент.
– Довольно странно слышать подобное от человека, у которого такая обширная библиотека. Я обратил внимание, что у вас в библиотеке есть полное собрание «Иллюстрированных лондонских новостей», 100 лет в 161 томе. История вашего замка. Множество других книг, посвященных самым разным эпохам. Мало кто обладает подобным «хранилищем» истории. Разве вы не ощущаете себя ее уникальным собственником?
– История ничья, мой друг, – с улыбкой сказал Эндрю. – Это она – мой собственник, а не я ее. Перефразируя Шарля де Монталамбера, вы можете не заниматься историей, она все равно занимается вами.
Лорд ненадолго задумался, а потом продолжил:
– Понимаешь, настоящая история и то, что написано на страницах всех этих книг, может разительно отличаться. Количество правды зависит только от того, насколько она, эта правда, была выгодна авторам. Довольно глупо ориентироваться на ложь при планировании будущего, не находишь? При этом я считаю правду атавизмом. Она не нужна для жизни. Правда – удел безумцев. Но о ней почему-то вспоминают в момент смерти.
Чиж украдкой зевнул. Это, судя по всему, не укрылось от лорда.
– Ладно. Вы с дороги, я тоже немного подустал, – сказал Эндрю. – Пойдемте, я провожу вас в гостевой домик.
Он допил виски, поставил пустой стакан на стол и встал; мы с Чижом последовали его примеру. Пока брели по коридору обратно к выходу, я обдумывал слова лорда. Удивительно, сколь многих тем мы коснулись за столь короткий срок. Учитывая нашу усталость, я решил, что сейчас ни к каким дельным выводам все равно не приду, и потому не стал себя мучить. Уже прощаясь с Эндрю, я сказал:
– Спасибо. Это была крайне интересная беседа. Я, признаться, даже не думал, что первый же вечер в Шотландии подарит мне такого чудесного собеседника.
– Не за что, Максим, – ответил Эндрю. – Главное – не бросай своих поисков. Вечно пытаться заглушить отчаянную жажду познания куда лучше, чем долгие годы плыть по течению. И не забывай: закостеневший мозг уже не оживишь.
– Почти как с сигарой, – заметил я. – Если она высохла, из нее ушел вкус. Увлажнить ее можно, но вернуть вкус уже не получится…
Эндрю пожелал нам доброй ночи и ушел, а мы стали готовиться ко сну. Гостевой домик явно построили совсем недавно, потому что ничего общего с замком он не имел – ни тебе картин на окнах, ни гобеленов, ни другой атрибутики… С другой стороны, к двум часам ночи нам было уже не до изысков – лишь бы упасть на что-то более-менее мягкое и закрыть глаза. Хотя я был настроен еще какое-то время провести за путевым дневником, чтобы потом не забыть каких-то деталей сегодняшнего дня – в особенности тех, что касались разговора в библиотеке.
– Макс, а Лермонтов говорил по-английски? – спросил Чиж, когда мы уже лежали в койках.
Я не стал напоминать про Вальтера Скотта, горячо обожаемого Михаилом Юрьевичем, и просто ответил на вопрос:
– Да, говорил. Кроме того, владел французским, немецким, латынью… и азербайджанским. Может, еще какие-то знал, не помню…
– Азербайджанским? – переспросил Вадим, глядя, как я вожу пальцем по экрану планшета.
– Ага. Он считал его не менее необходимым в Азии, чем французский – в Европе.
– Чудной он такой был, этот Лермонтов… – буркнул Чиж и захрапел.
– Чудной – не то слово… – тихо сказал я. – И очень, слишком сложный…
Холодной буквой трудно объяснить
Боренье дум. Нет звуков у людей
Довольно сильных, чтоб изобразить
Желание блаженства, пыл страстей…
* * *
1838
– Письмо вам, из самого Петерсбурга! – звонко воскликнул мальчишка, когда Уваров открыл ему дверь.
– Откуда? – пробормотал Петр Алексеевич, удивленный.
«Неужто Монго объявился?» – мелькнула шальная мысль.