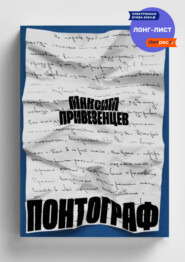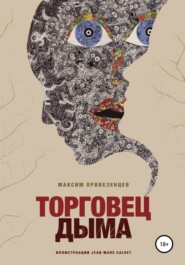По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Шотландский ветер Лермонтова
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Прости мой интерес, но… кто такой Николай Федорович? – осторожно спросил Уваров.
– Как – кто? – удивился было Лермонтов, но тут же спохватился и воскликнул:
– Ах, Петр!.. Все мысли в кучу с этими болезнями и смертью… Николай Федорович – это лейб-медик императора Арендт, он приходил еще в начале года по просьбе бабушки… и вот опять – в последние два дня, поскольку между этими днями он врачевал как раз-таки Александра Сергеевича…
Монго и Уваров переглянулись. Каждый из них понял в тот же миг, что услышит дальше.
– И я, конечно же, расспрашивал его о том, как умирал великий поэт, тот, чьими стихами я зачитывался с поры, когда только-только научился воспринимать стихи не как бездушный набор строк, а нечто живое и яркое… И так странно было слушать о том, как храбро и терпеливо встречает Пушкин свой конец – во мне, не скрою, в тот миг ужас от случившегося соседствовал с подлинным восхищением. Я, честно скажу, и помыслить не мог, что человек способен быть так мужественен у самого порога рая. Это смирение с участью, понимание, что ничего уже не исправить… ах, это точно должно стать уроком всем нам!
Лермонтов снова зашелся кашлем. Монго с Уваровым молчали, терпеливо дожидаясь продолжения.
– Но вот доктор ушел утром, а я остался лежать в кровати, совершенно лишенный сил и желания вставать. Как вдруг явился Николай… Один Николай на смену другому, только, увы, с совсем другими настроениями и словами. При этом сначала он даже меня хвалил за стихи, но потом скатился до обеления разнесчастного Дантеса. Тут я, хотите верьте, хотите нет, еще не был зол и сказал ему, что любой русский человек снес бы обиду от Пушкина, что бы тот ему ни сказал, ни сделал, не для себя, разумеется, а для всей России, для ее славы. Уж точно русский не поднял бы на Александра Сергеевича руки… Но твой брат, Монго, проявил упрямство осла и заявил, что, де, я не прав, и иные обиды даже светилу русской поэзии простить нельзя. Тут уж и я, признаю, закусил поводья и набросился на него, аки коршун на полевку. И про то, кто такой Дантес, сказал напрямик, и что про его гордыню думаю, стоившую стране подлинного гения. И про самого Николая сказал, что он Пушкину и в подметки не годится, что он его полнейшая противоположность, и что дел общих с этой противоположностью я иметь не желаю, а потому настоятельно прошу убраться вон, покуда мой гнев не превысил всяческие границы…
Монго устало вздохнул и, опустив глаза, покачал головой.
– И что же случилось потом? – осторожно спросил Уваров.
– Потом Николай ушел, – криво ухмыльнулся Лермонтов, – сказал, что я стал окончательно бешеным. А я сел дописывать.
– Что дописывать? – медленно спросил Монго, поднимая взгляд на друга. – Ты же уже дописал!
– Как оказалось, то была лишь первая из двух частей, – со слабой улыбкой пояснил корнет. – Сначала мне почудилось, что все уже сказано, но потом, после того, как я выдворил Николая, я понял, что должен закончить начатое.
– Ты о чем сейчас вообще, Мишель? – сухо уточнил Столыпин.
Он как-то весь разом подобрался, словно от ответов Лермонтова зависела и его судьба тоже.
– Ты дописал… стих про смерть Пушкина? – осененный догадкой, спросил Уваров.
Монго резко повернулся к спутнику.
– Догадливый мой друг Петр, – рассмеялся корнет. – Ужель мы с Раевским и для вас двоих приготовили по копии – я сказал, что вы будете, и он охотно помог. Возьмите, на столе! Хотел бы я, чтоб вы их прочитали… прямо сейчас…
Новый приступ кашля не позволил Монго сказать, что он хотел. Тихо ругаясь себе под нос, Столыпин быстро подошел к столу и взял одну из двух стопок листов, приготовленных поэтом. Окна были закрыты, чтобы сквозняк ненароком не смахнул труд двух литераторов на пол. Уваров не спешил; медленно он подступил и замер рядом с Монго, точно опасался, что если взять листы со стола и начать чтение, то пути назад уже не будет.
Столыпин читал, едва заметно шевеля губами, и с каждой секундой выражение его лица все сильнее выдавало беспокойство. Одолеваемый любопытством, Уваров все же взял рукопись со стола и тоже углубился в чтение.
Первые 56 строк были уже знакомы и пронеслись перед взглядом скорейшим образом, но на 57-й Петр Алексеевич «споткнулся», поскольку не сразу поверил своим глазам. Перечитав, Уваров понял, что не ошибся, и его тут же накрыло холодной волной страха.
«Да ты, верно, и впрямь не в своем уме, Мишель…»
Сама по себе 56 строчка – «И на устах его печать» – не казалась многозначительной и провокационной. Прошлая версия поэмы заканчивалась именно ею – вполне достойный финал этого прекрасного творения, очень искреннего и эмоционального.
Теперь же за строкой про печать на устах следовали еще шестнадцать, одна ярче другой:
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
Уваров, прочтя новую версию поэмы до конца, шумно втянул воздух ноздрями. Петру Алексеевичу и прежде казалось, что Лермонтов играет с огнем, теперь последние сомнения отпали: поэт не просто играл — он отчаянно «сражался с пламенем», добровольно окутав себя им, точно плащом.
«Этот «пожар» пока еще не разгорелся во всю силу, но на столь благотворном топливе, надо думать, вскорости запылает ярче солнца…»
– И сколько копий вы уже сделали? – спросил Монго, отвлекая Петра Алексеевича от мыслей. – Не только ведь для нас?
– Четыре, – подумав, ответил Мишель. – Ну, может быть, пять. Или шесть… Но вряд ли больше шести.
– Ты что же, смеешься надо мной? – холодно уточнил Столыпин. – Напрасно… Ведь очень может статься, что вскорости, кроме твоих самых ближайших друзей, у тебя не останется союзников ни в Петербурге, ни в Москве.
– А пусть даже и так, Монго, – отмахнулся Лермонтов. – Те мне не союзники, кто не готов вместе со мной подняться на баррикады и во всеуслышанье озвучить правду.
– Правда ли это?
– И ты туда же? – взвился Мишель.
Мгновение назад он выглядел донельзя усталым. Сейчас же в нем пылала страсть, подогреваемая гневом.
– Ты сам не хуже моего знаешь, что привело к этой… ужасной дуэли! Вечные анонимные посланья про «рогоносца», вечные шепотки за спиной… Такой молвы никто бы не стерпел! А ведь шептали обо всяком – не только про Дантеса, но про самого царя…
– Да все это известно, – перебил его Столыпин. – И каждый слышал. Но если каждый слух будет приводить к дуэли, то скоро на светских раутах воцарится тишина не из приличия, а оттого, что некому будет и слова молвить!
– Как – кто? – удивился было Лермонтов, но тут же спохватился и воскликнул:
– Ах, Петр!.. Все мысли в кучу с этими болезнями и смертью… Николай Федорович – это лейб-медик императора Арендт, он приходил еще в начале года по просьбе бабушки… и вот опять – в последние два дня, поскольку между этими днями он врачевал как раз-таки Александра Сергеевича…
Монго и Уваров переглянулись. Каждый из них понял в тот же миг, что услышит дальше.
– И я, конечно же, расспрашивал его о том, как умирал великий поэт, тот, чьими стихами я зачитывался с поры, когда только-только научился воспринимать стихи не как бездушный набор строк, а нечто живое и яркое… И так странно было слушать о том, как храбро и терпеливо встречает Пушкин свой конец – во мне, не скрою, в тот миг ужас от случившегося соседствовал с подлинным восхищением. Я, честно скажу, и помыслить не мог, что человек способен быть так мужественен у самого порога рая. Это смирение с участью, понимание, что ничего уже не исправить… ах, это точно должно стать уроком всем нам!
Лермонтов снова зашелся кашлем. Монго с Уваровым молчали, терпеливо дожидаясь продолжения.
– Но вот доктор ушел утром, а я остался лежать в кровати, совершенно лишенный сил и желания вставать. Как вдруг явился Николай… Один Николай на смену другому, только, увы, с совсем другими настроениями и словами. При этом сначала он даже меня хвалил за стихи, но потом скатился до обеления разнесчастного Дантеса. Тут я, хотите верьте, хотите нет, еще не был зол и сказал ему, что любой русский человек снес бы обиду от Пушкина, что бы тот ему ни сказал, ни сделал, не для себя, разумеется, а для всей России, для ее славы. Уж точно русский не поднял бы на Александра Сергеевича руки… Но твой брат, Монго, проявил упрямство осла и заявил, что, де, я не прав, и иные обиды даже светилу русской поэзии простить нельзя. Тут уж и я, признаю, закусил поводья и набросился на него, аки коршун на полевку. И про то, кто такой Дантес, сказал напрямик, и что про его гордыню думаю, стоившую стране подлинного гения. И про самого Николая сказал, что он Пушкину и в подметки не годится, что он его полнейшая противоположность, и что дел общих с этой противоположностью я иметь не желаю, а потому настоятельно прошу убраться вон, покуда мой гнев не превысил всяческие границы…
Монго устало вздохнул и, опустив глаза, покачал головой.
– И что же случилось потом? – осторожно спросил Уваров.
– Потом Николай ушел, – криво ухмыльнулся Лермонтов, – сказал, что я стал окончательно бешеным. А я сел дописывать.
– Что дописывать? – медленно спросил Монго, поднимая взгляд на друга. – Ты же уже дописал!
– Как оказалось, то была лишь первая из двух частей, – со слабой улыбкой пояснил корнет. – Сначала мне почудилось, что все уже сказано, но потом, после того, как я выдворил Николая, я понял, что должен закончить начатое.
– Ты о чем сейчас вообще, Мишель? – сухо уточнил Столыпин.
Он как-то весь разом подобрался, словно от ответов Лермонтова зависела и его судьба тоже.
– Ты дописал… стих про смерть Пушкина? – осененный догадкой, спросил Уваров.
Монго резко повернулся к спутнику.
– Догадливый мой друг Петр, – рассмеялся корнет. – Ужель мы с Раевским и для вас двоих приготовили по копии – я сказал, что вы будете, и он охотно помог. Возьмите, на столе! Хотел бы я, чтоб вы их прочитали… прямо сейчас…
Новый приступ кашля не позволил Монго сказать, что он хотел. Тихо ругаясь себе под нос, Столыпин быстро подошел к столу и взял одну из двух стопок листов, приготовленных поэтом. Окна были закрыты, чтобы сквозняк ненароком не смахнул труд двух литераторов на пол. Уваров не спешил; медленно он подступил и замер рядом с Монго, точно опасался, что если взять листы со стола и начать чтение, то пути назад уже не будет.
Столыпин читал, едва заметно шевеля губами, и с каждой секундой выражение его лица все сильнее выдавало беспокойство. Одолеваемый любопытством, Уваров все же взял рукопись со стола и тоже углубился в чтение.
Первые 56 строк были уже знакомы и пронеслись перед взглядом скорейшим образом, но на 57-й Петр Алексеевич «споткнулся», поскольку не сразу поверил своим глазам. Перечитав, Уваров понял, что не ошибся, и его тут же накрыло холодной волной страха.
«Да ты, верно, и впрямь не в своем уме, Мишель…»
Сама по себе 56 строчка – «И на устах его печать» – не казалась многозначительной и провокационной. Прошлая версия поэмы заканчивалась именно ею – вполне достойный финал этого прекрасного творения, очень искреннего и эмоционального.
Теперь же за строкой про печать на устах следовали еще шестнадцать, одна ярче другой:
А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!
Уваров, прочтя новую версию поэмы до конца, шумно втянул воздух ноздрями. Петру Алексеевичу и прежде казалось, что Лермонтов играет с огнем, теперь последние сомнения отпали: поэт не просто играл — он отчаянно «сражался с пламенем», добровольно окутав себя им, точно плащом.
«Этот «пожар» пока еще не разгорелся во всю силу, но на столь благотворном топливе, надо думать, вскорости запылает ярче солнца…»
– И сколько копий вы уже сделали? – спросил Монго, отвлекая Петра Алексеевича от мыслей. – Не только ведь для нас?
– Четыре, – подумав, ответил Мишель. – Ну, может быть, пять. Или шесть… Но вряд ли больше шести.
– Ты что же, смеешься надо мной? – холодно уточнил Столыпин. – Напрасно… Ведь очень может статься, что вскорости, кроме твоих самых ближайших друзей, у тебя не останется союзников ни в Петербурге, ни в Москве.
– А пусть даже и так, Монго, – отмахнулся Лермонтов. – Те мне не союзники, кто не готов вместе со мной подняться на баррикады и во всеуслышанье озвучить правду.
– Правда ли это?
– И ты туда же? – взвился Мишель.
Мгновение назад он выглядел донельзя усталым. Сейчас же в нем пылала страсть, подогреваемая гневом.
– Ты сам не хуже моего знаешь, что привело к этой… ужасной дуэли! Вечные анонимные посланья про «рогоносца», вечные шепотки за спиной… Такой молвы никто бы не стерпел! А ведь шептали обо всяком – не только про Дантеса, но про самого царя…
– Да все это известно, – перебил его Столыпин. – И каждый слышал. Но если каждый слух будет приводить к дуэли, то скоро на светских раутах воцарится тишина не из приличия, а оттого, что некому будет и слова молвить!