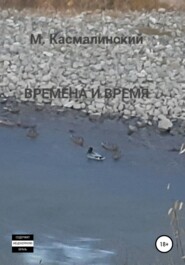По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путь с войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я не голодная, – сказала Алена. – Так посижу.
Ырысту вспомнил про чекушку, сначала хотел сходить, принести, но что-то остановило.
– Надо бы дверь в бане поправить – спланировал он. – Сарай разобрать. У вас там бедлам.
– Поправим, разберем, – сказал Тарас, не поднимая лица от тарелки.
– Слышь, Тарас! Когда поедем Москву, Кремль смотреть? Надо глянуть, че мы там защищали в сорок первом. Вдруг фуфло какое-то.
– Всяко, – сказал Тарас. – Так бывает. А вот говорят Ленинград – интересный.
– Там сейчас не до нас. Ленинград после блокады. Фрицы-суки! Лучше стрелять, чем блокада. Миллион, считай, человек от голода померло.
– Жалко? – резко спросила Алена.
– Конечно.
– А мне нисколечко не жалко! Они в своих столицах не жалели. Нехай побудут в нашей шкуре!
Ырысту удивился до крайности, и вся симпатия к жене Тараса мгновенно улетучилась. Алена взяла чугунок и вышла из дома.
– Ты на нее не думай, – сказал Тарас, словно оправдываясь. – Она не такая. Тут, понимаешь какая штука, родители ее умерли от голода. Дядька родной на два года ее младше… Все близкие на юге, в поднепровье… четыре тетки, дедушка, двоюродных было полно. До войны, без блокад, от голода все перемерли. Свое село аленкино, где детство, школа проходили, все село подчистую. А земля там такая, шо палку воткни – прорастет.
– По радио говорили, что голод в тридцатых это агенты. Типа иностранные агенты с Запада все замутили.
– Ну может они и агенты, – Тарас показал глазами наверх. – Но нам это знать не положено. Шо? Посидим, да пойдем сарай разгребем. Там и гвозди найдем по-любому.
Сарай разбирали до вечера, ненужный хлам Тарас хотел выкинуть на дорогу, но Ырысту воспротивился этому, нагрузил ржавую тачку и со страшным скрипом отвез мусор в яр за деревней. Починили в бане дверь, выкорчевали старый пень. А на следующий день Ырысту выдирал из земли корешки в палисаднике у Галины.
Вскоре он, расплетая косу, лежащую на подушке, спрашивал:
– Галк, а правда гутарят, что ты с эсэсовцем в открытую жила?
– Что с того? – лениво потянулась Галина по постели.
– Ничего.
– Хилючка напела? Каждый выживает, как может. Разве не так?
– Так.
– Я еще и с полицаем была, и со вторым секретарем райкома партии. С подпольщиками была. Теперь с тобой хочу быть. Эй, руки! Попозже хочу, дай отдышаться.
– А Хилючка, Алена, она с немцами крутила? – спросил Ырысту.
– Та-нет. Точно, нет. Нужна она больно.
– А ты, значит, нужна?
Галина встала с кровати, на ее ягодицах краснели следы пальцев. Она накинула ночнушку, выпила воды из кружки и сказала.
– И без тебя здесь хватает, кто осуждает. Половина села морды воротят, не разговаривают.
– А другая половина одобряет?
– Много вопросов, милок. Я же не спрашиваю почему у тебя документы другого солдата.
– Ух, проныра. Снял называется гимнастерку, – Ырысту стал одеваться. – Я к тебе, Галинка, больше не приду.
– Придешь.
– Завтра.
Тарас глядел в раскрытое окно, когда вернулся Ырысту, который со двора начал возбужденно говорить:
– Слышь, Тарас! Я узнал за Алену во время немцев…
– Ни-ни-ни! Замолкни! – Тарас закрыл правое ухо мизинцем, левым уткнулся в оконную раму. – Ничего знать не хочу! Это все не важно!
– Ладно, молчу.
– Я все продумал – тебе спасибо, надоумил – все, что было, пусть быльем порастет. Все не важно.
– Ну и правильно!
– Сходи к Литовченкам, займи, я отдам потом.
– В бочке должно плавать, – вспомнил Ырысту.
– Значит, сходи к бочке.
В последующие дни Бардин провел капитальную уборку и мощнейшую починку в хозяйстве Хилюков. Тарас помогал по мере сил, и с работой к нему возвращались спокойствие и уверенность.
– Ирис, скажи, как ты делаешь «ух!», – просил Тарас цепляя щупальцем ведро с песком.
– У-ух!
Двор преобразился, из запущено пустого стал добротным и ухоженным. Ырысту даже привез на тачке из-за деревни гладких камней и отсыпал дорожку с обеих сторон калитки. Часть переулка, прилегающую ко двору – тоже прибрал, где-то подсыпав, где-то скосив. И удивительное дело, селяне видя такую заботу вдруг тоже взялись за избы свои заброшенные, за свои огороды заросшие, за деревенские улицы, откуда убрали шлак и дерьмо, чего не бывало со времени НЭПа.
Благоустройство деревни отнес к своим заслугам глава сельсовета, невзрачный не старый мужчина, производивший впечатление марионетки-карьериста. Эта бедовая буратина пришел к Хилюку агитировать на покупку облигаций государственного займа. Говорил глава на невыносимом суржике, разбавленном канцеляритом. Алена, подбоченясь, стояла средь двора и то резко, то с мольбой пыталась отказаться.
– На что? Николаич, на что? Какие облигации, когда вместо денег – трудодни? Побойся Бога.
Председатель ответствовал, что он и Бога уважает, и того, кто повыше, а коли есть указание, то облигации надо брать, муж у тебя, который Тарас, сущий куркуль, каких поискать, так у него запасы, заначки, их надо вскрывать. Ырысту, сидящий на ступеньках крыльца, высказал вполголоса что-то ругательное, глава сельсовета услышал, спросил «это кто, прописка е?». Бардин подумал ругательное уже в собственный адрес, надо тихо сидеть, не высовываться.
Из-за угла вышел Тарас, послушал пару куплетов агитки, сказал главе, что денег нет, что держимся, как можем, делая при этом беспалой рукой те движения, которые сурдопереводчик понял бы как «Вон пошел отсюда!». Хилюк не постеснялся сказать это и вслух. Обиженный председатель пошел к следующему дому, а Алена сказала:
– Ты бы уважительней, Тарас.