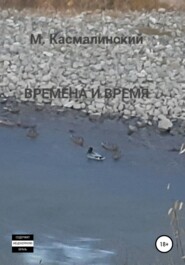По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путь с войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какие враги? – протянул Борис. – Война кончилась.
– Война, знаешь, так просто не кончается! Когда уже раскрутилось всё это, то сразу не остановится. Это может на годы. На поколения! А что ты меня осуждаешь? Сам собрался уходить.
– У меня другое, я в науку вернуться хочу. Но никак не могу понять как тебе, женщине не хочется уже без врагов и предателей? Чтобы покой, мир, домашний очаг, в конце концов?
– Есть долг, – с пафосом сказала Вилена. – Служить государству!
– А без выявления разных…, которые часто притянуты за уши, без этого нельзя помогать государству?
– Помогать можно. А служить нужно только в форме с погонами. Остальное – планктон. Не дуйся. Я тебя не имела в виду. Научные работники это тоже…
Вилена не успела сформулировать в чем ценность научных работников, из отдела вышел горестно-лютый Загорский, который, не сказав ни слова, сел в автомобиль и со всей силы хлопнул дверцей.
– Убёг наш заяц, – шепотом сказал Вилене, вышедший вслед за шефом, Сметана. – Упустили смершевцы во время арестов. Сейчас позвонили им, а те даже такие, как так и надо.
Группа расселась в машине по своим местам. Гаврилов повернул ключ зажигания.
– Куда едем? – спросил он.
– Куда? – переспросил Загорский, проводя ладонью по лицу, словно снимая случайную паутину. – Борис, а что там по бардинским сослуживцам? Намечали, помнится, два варианта. Их и будем отрабатывать. М-мм, сегодняшний промах технично забываем. Что сказать? Врываемся.
9.
Украинское село, куда вошел Ырысту клейким июльским вечером, пребывало в берлинской почти разрухе. Кучи мусора добродушно соседствовали с облупившимися хатами, главная улица наполнена обломками и ямами, сломанная березка догнивала вдоль дороги справа. Кровли мазанок, выгнувшись, замерли в скрипящем ритме колодезных жердин, играющих поклонами то там, то здесь. Ограда крайнего дома была эклектично выполнена из разнокалиберных досок, потом шел плетень тонких веток, немного штакетника и в завершении – лист самолетной обшивки с намалеванными белыми звездочками и почему-то скрипичным ключом.
Ырысту добрался сюда под видом сержанта Каримова, красноармейскую книжку которого он изъял из комода в доме пана полковника. Этот достойный узбек был чист перед законом, а значит мог бесстрашно садиться в поезда, идти куда душе угодно, спокойно общаться с патрульными, козырять без боязни старшим по званию. Бардин планировал, что документ этот поможет ему добраться до дому гораздо быстрей, но это попозже, а сейчас навестит он друга-однополчанина. Тем более, Блинову обещал пока Украину не покидать, и село, лежащее вдали от больших городов и важных дорог – удобное место, чтоб отсидеться.
Из огорода, разбитого за занятной оградой крайней избы, поднялась любопытная женская голова, увенчанная тяжелой русой косой, уложенной бубликом. Блеснула жемчужная улыбка, взлетел заинтересованный взгляд с вопросом: а кто это такой храбрый, да справный идет? Бардин выдал проходную шутку, молодка засмеялась, с явным намерением флирта и зубоскальства подошла к забору, предложила зайти, погостевать. Ырысту сказал, что обязательно, но чуть попозже, спросил где найти дом Хилюков. Бабенка объяснила, взяв таки обещание заходить в любое время, попросту, без всяких. Разговор сопровождался обоюдными намеками и двусмысленностями. Бардин, прощаясь, щипнул за бочок тощее тело, которое охнуло не без удовольствия.
Некому бабу помять, как некому мусор в деревне прибрать. Ясак, собранный войной, это парни, мужчины, рано повзрослевшие подростки. Ырысту стало грустно. Но теперь-то люди одумаются, после всего пережитого войны останутся в прошлом. Должны! Как рыцарские турниры, как работорговля и рабовладение, как сословия и крепостное право. У страны обязана быть армия априори (ни фига себе слово вспомнил! Наверное, мозги включаются), но армия пусть будет профессиональной. Пусть службу несут специально натасканные псы войны, которым подло нравится все это. Сам такой же, чего уж там. Был. Или есть. Сердце на качелях – отношение к войне менялось ежедневно. Неизменным оставалось то, что своим сыновьям не желаю увидеть того, что мне довелось. Не успеешь оглянутся пацанов призовут, сначала старшего, второго через год. Отменить бы обязательный набор!
Хату Тараса Хилюка сторожил строй кусачей крапивы. Ограда – зеленые колышки – повалена в эти кусты, и не поднять ее – обожжешься. Грязные стены избы, печная труба покосилась, в оконце, сквозь отражение солнца в стекле, можно увидеть профиль мужчины, похожий на Африку в контурной карте. Это Хилюк, дружище Тарас. Ырысту поднял с земли мелкий камешек, бросил в стекло. Его увидели. Он положил вещмешок на землю и подошел к крыльцу. Дверь в дом была распахнута, а в проеме огромным бинтом натянута ветхая занавеска. На марле появились очертания человека, она подалась с шуршанием вперед. Из-под сетки появился хозяин – Хилюк Тарас собственной персоной. Но не всей. Персоны – не комплект. Хотя и знал Ырысту, но все же содрогнулся. Левой руки у Тараса не было вовсе, сдутый рукав пестрой рубашки завязан узлом, на правой сохранились лишь два пальца – большой и мизинец, а на лице – глубокая рытвина вместо усов и верхней губы. Не скрывает пегих зубов рваный лепесток под носом. Страшным оскалом Тарас был похож на раненого старого бобра.
– Здорово, братуха, – прошепелявил хозяин.
– Здорово, мой друг, – сказал Ырысту.
Они обнялись. Гость отогнал от левого уха Тараса зеленую жирную муху. Ырысту держал друга за плечи с невыносимой бережностью.
– Шо ты меня, как инвалида? – сварливо заметил Тарас. – То есть, совсем инвалида, я ж на ногах поди-ка стою.
– Я рад тебя видеть, – сказал Ырысту.
– Я тоже. Давай, заходи.
В сенях стояли грабли, лопата, другой инструмент, на тяпке засохли комья земли. По подоконнику расположились вымытые огурцы.
– Солить собралась, – кивнул на овощи хозяин. – Зацепи пару штук.
Ырысту взял два огурца, прошел за Тарасом в избу. Здесь первая комната, она же прихожая, она же и кухня, была прокурена до слез. Тарас своим щупальцем выщелкнул правую створку окна. Большую часть кухни занимала печка, на которой стояла пустая кастрюлька и закрытый дощечкой пузатый чугун.
Напротив печи был проход без косяков и двери в безоконный закуток, там Ырысту заметил кровать с одеялом и грубой подушкой. Тарас сел за стол у окна, пальцем сдвинул блюдце с окурками, лениво сказал:
–Ты садись, Ырысту.
– Ага. Нет, подожди!
Бардин сбегал на улицу, вернулся с баулом, из которого достал бутылку мутной жидкости, заткнутую тряпичной пробкой.
– О! О! Це дило! – похвалил Тарас. – Там, глянь, у шкапчике… ты руку протяни. Стаканы доставай. Миску тоже. Наливай.
Хилюк обхватил клешней стакан с самогоном, Ырысту поднял свой и сказал:
– За тех кто…
– Завязывай! – оборвал его Тарас. – Ребят помянем третьим тостом. Сейчас – за встречу, – опрокинул в рот посуду, вдохнул с плеча.
Ырысту тоже выпил без закуси и опустился на стул, с которого тут же вскочил. Из табурета торчал острый ноготь гвоздя.
– Давай молоток, – сказал Ырысту.
– В сенцах поглянь, – отозвался Тарас и отвернулся к окну.
Ырысту отыскал молоток, вколотил гвоздик до шляпки, снова разлил самогон по стаканам.
– Как ты, Тарас? Это… як життя?
– Сам видишь, руки украли, – ответил Хилюк без намека на жалобу, буднично и безразлично. – Такая штука. Чутка зазевался и все.
– Ты писал.
– Как писал? Диктовал. А эта записала. А ты? Увидел весенний Берлин.
– Ага. Только гостинца тебе не привез.
– Я за это не в обиде, – усмехнулся Тарас. – Молодец, что пришел. Там в чугунке, картошки достань. Наварила мандавошка. Поди не испортила.
Ырысту доставал картошку в теплых мундирах и говорил:
– Серегу комиссовали еще в прошлом годе. Старшину насмерть убило уже в Германии. Саня Нехорошев… не знаю, я после отпуска по ранению не видел его. Церцевадзе в Днепре вашем утоп. Ринат…. не знаю. Кацман ногу потерял….
Тарас, сдирая кожу с луковки, презрительно прокомментировал:
– Великое дело! Ногу! Пф-ф… Без ноги шо? Даже на гармони можно. Сиди себя, наяривай. Я в Москве, когда в госпитале чалился, там одну ногу когда отрезают, так за серьезное не считается. Пару дней повалялся, и выгоняют.
Ырысту промолчал, сел к столу и спросил:
– А Кремль ты посмотрел? Было такое в планах, я помню.