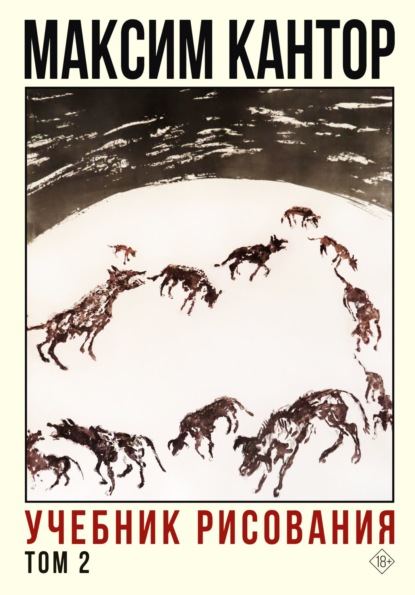По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Учебник рисования. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– И пусть! Нравятся бриллианты с яблоко величиной – пожалуйста! По-моему, это вульгарно, но если кому-то нравится – ради бога! Я свой вкус никому не навязываю, просто говорю – это не мое. Мне это чуждо. Разные мы люди, вот что я вам скажу!
Дело даже не в том, что сокровищ Зое Тарасовне никто не предлагал и что бриллианты с яблоко величиной действительно были не ее, но в том, что расстояние между классами (и, соответственно, уклады и образы жизни в обществе) менялось стремительно. И касалось это не только России – страны, где не так давно все были равно бедны, – но всего мира, где соотношение богатого с бедным претерпело за последние двадцать пять лет существенные изменения. Выражаясь коротко, разница между богатым и бедным, разница почти незаметная в шестидесятые годы (или весьма искусно декорированная), сделалась в конце двадцатого века существенной, в двадцать первом же – вопиющей.
III
Благословенное время Европы – а именно те тридцать лет, что впоследствии будут вспоминать как недолгий золотой век, случившийся внутри века уродств и бедствий, – завершилось в семидесятых. Вписанное меж двух катастроф (тотальной войны и тотальных режимов – и деколонизации и разрушения социализма соответственно), это время наследовало у диктатур идею равенства и одновременно пользовалось привилегиями колониализма. То было уникальное время, когда равенство и свобода как бы нехотя соседствовали с прогрессом и колониальной политикой. И казалось вполне естественным, что антидиктаторские настроения разогреваются явайским ромом, а свободолюбивые прения проходят в дыму кубинских сигар. Вы видите, кричало это время, мы отвергли диктатуры, но не отвергли равенства! Мы за прогресс, а то, что в связи с его развитием придется пожертвовать общим равенством, нас не касается. А то, что равенству в определенной мере присуща диктатура, – этого мы и знать не желаем! Мы за то, чтобы развитие капитализма стимулировало либеральные ценности. А сигары из колониальных провинций – ну, это так случайно случилось: завозят какие-то цветные, и ладно, нехай завозят. Ненормальность и эфемерность этого положения дел явилась следствием того странного союза, что был заключен во имя победы над фашизмом. Недолгий союз коммунистического идеала (в наиболее действенном своем воплощении, т. е. в армейском) с капиталистической практикой (в наиболее привлекательном варианте – либерально-консервативном) оказался возможен в весьма определенном действии – войне, но формулировал этот союз свое существо крайне неопределенно – словом «антифашизм». Поскольку никто не был в состоянии внятно сформулировать, что такое фашизм и противником чего конкретно данный союз выступает, то и порожденный союзом эффект был туманен. Победители рассорились и поделили мир, и та часть мира, что явилась на короткий срок воплощением равенства и процветания одновременно, приняла это странное состояние за свою историческую миссию. Европе вдруг померещилось, что она и впрямь воевала не за свою жизнь, дома, колонии, доходы, но за абстрактную свободу и от имени этой невнятной и несформулированной идеи свободы и обладает правом говорить. И – что еще более удивительно – всему остальному миру это померещилось также. Европа жирела и богатела, наливалась соками и кровью всего прочего мира, но делала это ради высоких идеалов, во имя правды и блага других. Словно бы провидением специально была назначена миссия такая западному человеку – пользоваться продуктами прочих народов, пить и есть всласть и являть собой пример нравственного ориентира. Мир принял это ненормальное, фальшивое состояние за расцвет либерализма, и когда дети рантье, зажравшаяся парижская номенклатурная шпана, кричали в шестьдесят восьмом: «Мы – немецкие евреи!» – мир видел в этом не безобразие сытых подонков, не надругательство над памятью сожженных, но движение либеральной мысли. И никто не сказал крикливой сытой сволочи, потерявшей голову от своего безнаказанного состояния: стыдитесь, юноша, вам по-прежнему мерещится, что вы на баррикадах, а вы – в торговом ряду. Напротив, мир благосклонно усмотрел в хулиганстве зерна свободы. И действительно, зерна уже проклевывались, надо было лишь подождать всходов, чтобы определить – что именно за продукт пророс. Приняв (как наследие разрушенных режимов) идеалистическую идеологию и сохранив (как наследство колониального развития) капитал, западная цивилизация на недолгий срок представила модель развития, поразительную для рассудка восточного наблюдателя: то было равномерное преумножение богатств для людей свободных и равных, цветение всех садов и открытие всех горизонтов. Данная модель (при всей своей безусловной порочности и бессовестности) была принята восточными наблюдателями – прежде всего восточной интеллигенцией – как идеал человеческого развития. Впоследствии, то есть через весьма краткий промежуток времени, когда условия для безнаказанного кривлянья сделались затруднительны, мир по-прежнему считал то балованное, расслабленное и порочное состояние идеалом, и – можно не сомневаться – так и останется в памяти веков.
Силою вещей, то есть простым ходом дней и событий, это благословенное время пришло к концу; обнаружилось, что вне западного мира есть иной мир и с ним требуется тоже как-то обходиться. Там тоже живут люди, конечно, не столь интересные и далеко не так внимательно отобранные мировым селекционером, но все-таки люди. Про них на некоторое время забыли, а это было неверно: вне разумного управления колонии расшалились, экспорт-импорт расшатался, иммиграция туземного населения испортила пейзажи метрополии, количество беженцев, пересекающих планету справа налево, сравнялось в цифрах с миграциями Средних веков – словом, что-то разладилось в мире, который уже было вздохнул в облегчении. Наличие другого субъекта всегда неудобно, особенно же неприятно наличие множества других, когда надо распределять такой лимитированный продукт, как свобода. Добро бы, западные политики собирались тиранить туземцев – но нет, нынче нужно их одаривать свободой, а это затруднительно. За эту самую свободу Марианна на баррикадах кричала и Ла-Манш бойцы штурмовали в день D, а теперь что же – у алжирца, или афганца, или конголезца ее будет столько же? И получается, достанется она им за меньшую плату? Поскольку века унизительной жизни конголезца в расчет не берутся (обсуждаться может лишь осознанное стремление к демократии), то и выходит, что свободу конголезец обретет без усилий. Не в том дело даже, что жалко свободы для других, но подойдет ли всем один и тот же покрой законов, власти и управления? Поскольку очевидно, что все в один костюм просто не поместятся – резиновый он, что ли? – требуется готовить для других нечто особенное. И, надо сказать, дизайнеры сегодня изобретают удивительные модели – налезут на любой горб, так спрямят, хоть на конкурс красоты посылай. Разумеется, материал для туземного костюма берут подешевле, практичный и немаркий – ребятам все-таки надо работать. Стали рядить туземцев в новое платье – и всполошились: как-то само устроилось, что для малых сих закон сшит на особый лад, и это ведет к отмене идеи равенства, общих идеалов, прогресса, сочетающегося с либерализмом.
Однако работать надо – и взялись за работу; и стали кроить на чилийцев и аргентинцев, шить на Восточную Европу, пришлось отложить игрушки блаженной поры шестьдесят восьмого, засучить рукава: либерализм, оно, конечно, недурно, но есть такая вещь, как Бремя белых. Нести это бремя непросто, работа грязная, но необходимая. Понадеялись было западный мир и демократия отдохнуть от трудов праведных (и то сказать, сколько жертв унавозило почву для цветения либерализма), так нет же – опять надо вводить экспедиционные корпуса, опять лететь незнамо куда с точечными бомбардировками. Думалось и мечталось, что достаточно попросту явить миру пример свободной и благой жизни, и даже волю вот дали отдельным колониям – смотрите, олухи, учитесь. Так нет же, не удастся отдохнуть: им, чертям полосатым, волю дашь, они себе же во вред напортачат. И то не беда – пусть бы и напортачили себе во вред, но не удается кормить и одевать остров цивилизации в нецивилизованном мире, если общие представления о свободе и благе (то есть представления о благе в Африке и на Западе) разнятся. Нормальным положением дел является такое, при котором африканцы полагают, что благо Запада – это и их благо тоже, но так ведь этому еще учить и учить. И непросто научить, если существует противоречие в действиях гувернера: и свободу воспитаннику дать, и заставить воспитанника поступать в соответствии с требованиями не своей собственной свободы – а гувернерской. Вот ведь проблема.
В построении новой империи – а в том, что строить ее снова необходимо, соглашались лучшие умы – требовалось вернуться к истокам, к тому, с чем сталкивались все великие строители последних лет: Наполеон, Гитлер и Сталин. И преемнику их – хочешь не хочешь – требовалось найти метод, внушающий общие представления о благе, чтобы этим благом управлять.
IV
Наполеон, находясь на острове Св. Елены, с гениальной простотой обозначил свою былую цель: привести человечество к такому состоянию, чтобы везде был один язык, один закон, единый образ жизни. Империи часто рушились именно оттого, что разные уклады и разные образы жизни не сочетались меж собой – и расшатывали конструкцию. Наполеон простодушно обозначил цели своей кампании – и под этими целями сегодня легко поставил бы подпись любой радетель цивилизации.
«Русская война, – писал император, – должна была быть самой популярной в новейшие времена: это была война здравого смысла и настоящих выгод; война спокойствия и безопасности всех; война миролюбивая и консервативная».
(Но разве не во имя здравого смысла и настоящих выгод осуществлялись последние преобразования в просвещенном мире? Разве не во имя здравого смысла были предприняты акции, свергающие тоталитарные режимы? Разве не ради подлинных – а не утопических – выгод менялся экономический уклад завоеванных цивилизацией стран? И разве не во имя спокойствия и безопасности всех должны были быть уничтожены некоторые отдельные очаги волнений? Разве не миролюбием вызваны точечные бомбардировки? Разве о чем-то ином, кроме как о консервативном либерализме, пеклись в Сербии и Руанде, в Латинской Америке и Азии?)
«Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех. Система европейская была бы основана, вопрос заключался бы только в ее учреждениях».
(Положить конец историческим случайностям и прожектерству – разве не эту цель ставили перед собой политики сегодня? Разве не западную демократию – в терминологии Наполеона: европейскую систему – требовалось внедрить повсеместно, чтобы добиться благоденствия? И разве не благосостояние являлось заветной мечтой?)
«Удовлетворенный в этих вопросах и спокойный, я бы тоже учредил свой Конгресс и свой Священный союз. В этом собрании великих государей мы обсуждали бы наши интересы семейно и считались бы с народами, как исполнитель поручений с хозяином».
(Новый правитель будет не тираном, но рачительным администратором. Разве не именно эту цель – т. е. создание наднационального административного совета – ставили, утверждая Лигу Наций, ООН, «Большую Семерку» или другой надмирный начальственный орган? Транснациональные корпорации – по добыче нефти, например, – не явились разве примером для демократии? Требуется власть, которая была бы управляемой и наемной, вроде генерального директора корпорации. Руководящие указания он получит от людей компетентных, и никакие исторические фантазии не придут ему в голову.)
«Европа действительно скоро составила бы таким образом один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине».
(Есть ли цель важнее? Унизительно сознавать, что свободы западные заканчиваются где-то на границах цивилизации, обрываются среди степей. Само предположение оскорбительно, что живут где-то дикари, удовлетворенные дикарством, и знать не хотят про Ива Кляйна, Ле Жикизду и Энди Ворхола.)
«Все реки были бы судоходны для всех, море было бы общим, постоянные большие армии уменьшены до гвардий государей. Всякую будущую войну я провозгласил бы защитительной, всякое новое распространение – антинациональным».
(Когда внутри цивилизации мир установлен, разве нужны внутренние армии? На рубежах империи, ограждая достижения прогресса, – вот где они должны стоять. И разве не является происходящее сегодня – то есть превентивная война цивилизации против варварства – войной сугубо защитительной?)
Здесь надо отвлечься от политического рассуждения и обратиться к жизни частной. Необходимо это для того, чтобы частным примером проиллюстрировать простое социальное положение: привлекательным образом жизни является чаще всего образ жизни недостойный. Подобно тому как ненормальное существование западного мира в послевоенные годы, существование паразитическое и распущенное, показалось остальному миру идеальным и свободным, так и жизнь некоторых светских персонажей – и жизнь подчас скверная – неожиданно кажется окружающим манящей и представляется достойной подражания.
V
Павел, замученный своим двусмысленным положением, уставший от вранья, неожиданно увидел, как его уродливый образ жизни привлекает к нему общественное внимание. И внимание это, что поразительно, было отнюдь не негативного свойства. То, что он, женатый человек, живет с любовницей, замужней женщиной, то, что делает он это открыто, у всех на виду, – оказалось привлекательно для общества настолько, что общество решило закрыть глаза на прочие проступки Павла: то есть на его консервативные взгляды, любовь к давно не актуальному искусству живописи, неприязнь к моде, etc. Никто не пенял ему, никто не упрекал его в разврате. Напротив – посторонние и вовсе неизвестные Павлу граждане выражали восхищение его свободным поведением, и оно (это ненормальное и постыдное поведение) служило им примером. Людям творческим – так негласно решило общественное мнение – позволено многое: разве они не исключительные личности, наделенные бурным темпераментом и фантазией? Так случается порой, что творческие люди нарочно высказывают эпатирующие общественный вкус убеждения – чтобы привлечь к себе общественное внимание. Так поступали Байрон, Рембо, Маяковский, Сыч. И общество, привлеченное поначалу зрелищем порока, впоследствии находит в пороке много привлекательного и, главное, объясняющего поведение творца. Если что-то и может оправдать в глазах сонного обывателя морализаторство Маяковского, то это беспорядочная половая жизнь пролетарского поэта, его вопиющий mеnage ? trois с Бриками. И если что-то и извиняет презрение Байрона к светскому обществу, то это его пренебрежение людьми вообще. Заинтересовалось бы общество Анатолием Сычом, выстави он напоказ свою любовь к сестре-горбунье? Нисколько, но общество склонно посмотреть на чувства к сестре сквозь пальцы, если принять во внимание адюльтер с хорьком. Казалось, нет ничего привлекательного в допотопных убеждениях Павла (что может быть скучнее сегодня, чем любовь к живописи?), и, однако, мнение Павла стали замечать в обществе. Неожиданно он стал модным персонажем. Его еще не приглашали на открытия мебельных бутиков и презентации молодого Божоле, но уже звали на карнавал в Венецию, в палаццо Клавдии Тулузской, где резвилась столичная публика. Ему говорили так: отчего же вы не прилетаете к нам в Дорсодуро? Все лучшие люди там, знаете Ле Жикизду? Его стали звать на столичные вернисажи, и модные люди подходили к нему и Юлии Мерцаловой – и раскланивались. Сам Аркадий Владленович Ситный улыбнулся ему полными своими губами и сказал: приятно познакомиться с вашей спутницей. И Павел гордился своей спутницей, ее красотой и странностью их отношений. Приезжайте со своей красавицей, вашей, хм, подругой, то есть, я хотел сказать, женой, говорили ему люди, доселе ему незнакомые, и подмигивали. В известном смысле показной разврат своею смелостью компенсировал скучные убеждения Павла. И то, что сам Павел свою жизнь развратной никак не считал, но, напротив, считал, что то, как он живет, и есть правильно и честно, делало его еще более интересным в глазах общества. Павел, разумеется, томился от двусмысленности и вранья, но полагал, что это небольшая плата за свободу и страсть.
И окружающие восхищались свободой Павла. Его новый образ жизни как бы внушал окружающим, что рутинные убеждения в искусстве (которые Павел отстаивал) не совсем уж и рутинны, что-то такое пикантное в них, пожалуй, есть. Вот этак взять да и вывернуть общие представления – а что? Совсем недурно может получиться. Есть изюминка в том, чтобы любить живопись в то время, когда все уже давно делают инсталляции! Если поглядеть на самого Павла и на то, как он живет, то сделается понятно, что такой модный человек попросту не станет искать немодных увлечений. Вот, кстати, поговаривают, что живопись опять возвращается, и даже, кажется, где-то в Штатах появился один модный живописец: изображает кое-что красками.
Как-то само собой устроилось так, что социальная активность Павла (выраженная в программных картинах и сожительстве с красивой женщиной) дала свои плоды. Его звали на выставки, Павел стал продавать картины за границей, летал, как и прочие модные художники, в Европу, стоял на вернисажах с шампанским в руке, менее удачливые люди ему завидовали. Сам Павел утвердился в мысли, что при условии упорной работы возможно настоять на своем и вернуть живопись в мир. Встречаясь с коллегами (а теперь он сталкивался с ними в аэропортах и на вокзалах, а вовсе не в мастерских, как бывало раньше), он думал про себя: мы совершенно разные – они стараются подделаться под этот мир, но я пытаюсь его изменить. Да, они впустили меня в свое общество по ошибке, не подумав. Я противник их искусства, я делаю иное, думал он. И тот факт, что произведения их покупали одни и те же люди, его не тревожил.
И краденая жизнь, за которую надо бы испытывать стыд, сделалась привычной для Павла – и он испытывал гордость за то, что живет не так, как все, и полагал, что его образ жизни, то есть образ жизни свободного и гордого человека, есть единственно правильный.
В отстаивании краденого и постыдного (будь то речь о Павле Рихтере, о западном мире шестидесятых или о доходах российской промышленной и политической элиты конца века) непременно наступает момент, когда краденое и стыдное надо привести в соответствие с внешними нормами закона. Не то чтобы Ефрем Балабос вдруг застеснялся своего персикового леса и семиэтажного особняка и восхотел жить сообразно общему образу жизни своих соплеменников; не то чтобы парижские рантье захотели покинуть кафе и устричные бары и поселиться в Африке; не то чтобы Павел Рихтер захотел (или мог, что в его случае равнозначно) расстаться с Юлией Мерцаловой – совсем нет. Но наступает момент, когда рантье, Балабосу и Павлу Рихтеру уже недостаточно, что мир их не осуждает и не считает их действия постыдными. Недостаточно и того, что мир считает их действия превосходными и правильными. Требуется сделать так, чтобы мир считал все прочее (включая самого себя) неправильным – а единственно правильным считал аномалию. Для этого необходимо переписать общий закон, так его переиначить, чтобы дурной образ жизни стал образцом.
Процесс перешивания костюма – причем перешивать приходится прямо на клиенте – процесс трудоемкий; для исполнения этой работы (если речь идет об историческом моменте) общество выбирает такого правителя, который бы не гнушался брутальными мерами и не опускал рук, заслышав жалобы.
VI
В России, когда пришла пора подобного шага, кандидата нашли легко.
Подчиняясь закону русской истории, который требовал сменить правителя с шевелюрой на лысого, а также потому, что президент с мясистой головой и бурными эмоциями пришел в негодность и употреблять его сделалось для мирового сообщества и отечественных воротил затруднительно; потому также, что этап первоначального накопления был завершен и новой задачей сделалось накопленное удержать, люди ответственные стали смотреть по сторонам: а кому бы передать управление этой бессмысленной землей? В пору наследуемой монархии такого вопроса бы не возникло; не возникло бы такого вопроса и в пору коммунистического режима – тогда правителем делался верный наследник идей. Но в отсутствие идей и в отсутствие прямого родства – кому передать бразды? Поговаривали – в пивных и на вокзалах, – что-де выращивает наш бурнопьющий президент себе достойного преемника; мол, держит он на закрытой даче некоего тайного воспитанника, вливает в него по каплям науку управления, ограждает от соблазнов мира, пестует юный ум, чтобы в свое время явить народам светлый лик непорочного правителя. Дескать, вот выпьет президент свою норму, развалит страну до нужного состояния, а потом заботливой рукой отомкнет потайную дверь – и выпорхнет наследный принц, обученный прекрасным и цивилизованным началам. По достоверности предположений это напоминало рассуждения о наследниках российских бандитов, получающих воспитание в закрытых колледжах западных государств. Мнилось, что живодеры и кромешники так обучат своих малолетних чад, что привьют им начатки человеколюбия и смирения. Иные домохозяйки и их обремененные заботами мужья лелеяли надежду, что дети тех, кто сегодня забирает у них деньги, будут им эти деньги возвращать. Вот погодите, говорили люди положительные и оптимистические, глядя вслед лимузину, что обдал их грязью, вот погодите только – его дети в Гарварде обучатся, приедут образованные и уже не станут на нас грязью брызгать. И в расчет не хотели брать доверчивые домохозяйки того, что за время обучения наследников в Гарварде лимузины станут только больше, а лужи глубже и грязнее.
Как бы то ни было, а проблема с переменой владетеля земли русской стала весьма существенной, и мамки с няньками стали поглядывать по сторонам: кому бы доверить стеречь награбленное, кто подойдет, кто не подведет? Ведь натырено-то немало – значит, и ответственности от нового хранителя краденого требовали строжайшей. Свой человек должен быть, проверенный. Казалось бы, зачем далеко ходить и искать, коли у порога Кремля дежурит Владислав Григорьевич Тушинский со товарищи; только мигни ему, он и бросится в цари и запирует в Грановитой палате с лихими своими компаньонами. А вот еще Дима Кротов произрастает – либеральнейших настроений юноша, чем этот-то плох? Его и на Западе привечают, и костюмы от Бриони он носить обучен, неужто не подходит? Напрасно, на приемах он смотрелся бы весьма недурно. Но проблема была в том, что упомянутые лица хоть и удовлетворительно смотрелись в политическом ландшафте и декларировали готовность взять власть немедленно и распорядиться ею либерально, но на самом деле получить эту самую власть нимало не желали. Той небольшой и неопределенной власти, что уже была у них в руках, им было совершенно достаточно; более того, это состояние неопределенной власти и соответствовало более всего их неопределенному представлению о свободе – и определенному представлению о безопасности и материальном благополучии.
«Ведь в чем беда с ними, – говорил министр топлива и энергетики Михаил Дупель своему коллеге по расхищению природных ресурсов и налаживанию демократической власти в стране Ефрему Балабосу, – в чем беда с ними: они уже получили все, что хотят, им больше и не нужно». – «Демократия в России им не нужна? – ярился Балабос. – Обратно в советскую власть захотели? Ведь рвался же, гаденыш, изменить страну в пятьсот дней – а теперь в кусты?» – «Ну зачем Владику Тушинскому президентство», – цинично улыбался Дупель, – а его домик в Брайтоне как же? А лекции в Кембридже? А как же пожертвования прогрессивных фондов – расстаться с ними?» – «Так ведь больше бы взял, – вздыхал Балабос, – если с умом бы подошел, конечно». – «Не нужно ему больше, – говорил Дупель с тоской, – ему хватает, нахапал уже. И все они так: как брать – первые, а ответственности – никакой. Нахапал – и бежать». – «Меня реформы, – говорил Балабос, – реформы меня тревожат. Кому их доверить? Ведь упустим, упустим страну!» И смотрели по сторонам Дупель с Балабосом, искали пытливым взглядом кандидата на престол.
«Мы не президента (какие теперь президенты – ха-ха! – еще чего не хватало!), мы управляющего нашим добром назначаем, – говорили друг другу Дупель и Балабос, Щукин и Левкоев, – вот поставим молодца, и пусть сундуки охраняет. Не нужны нам перепуганные интеллигенты вроде Владьки Тушинского, которые боятся к власти подступиться; нам нормальный менеджер нужен». Однако в поисках менеджера мамки с няньками да Балабос с Дупелем столкнулись с той же проблемой, что и рядовые бандиты в воспитании наследников, – проблема эта генетическая. Отрадно бы, конечно, вырастить в Гарварде лауреата всех наук, даром что он происходит от живодеров. А вот дадим ему знаний! Нехай просветится пацан! Но как-то так получается, что учится мальчик маркетингу да менеджменту, а, приезжая, берется за финку и обрез. Учили его, что ли, плохо? Из кого делать управляющего? Из интеллигентов – не получается, трусливы больно; из партийцев пробовали – не годится, спиваются; из бандитов – и хорошо бы, да больно ненадежный материал. Где его и откопать, принца-администратора, как не в своих же канцеляриях? Вот кто нам нужен – рядовой клерк, без амбиций, в нарукавниках и скромненький. А какая канцелярия у нас лучшая, ну-ка глянем! Известно какая – знаменитые органы, другие-то канцелярии все развалились. А каких там, в органах, администраторов выращивают? Известно каких.
Таким образом, переживая за сохранность уворованного, мамки с няньками назначили себе в управляющие чекиста, офицера госбезопасности, лысеющего блондина с волчьим взглядом. Его и искать долго не пришлось – всегда под рукой был: еще в самом начале реформ призвали люди прогрессивные к себе в помощь офицеров госбезопасности; кто же лучше гэбэшников владеет конкретной информацией – где что лежит. Уж если ты собрался, в целях прогрессивных и возвышенных, что-либо из народной казны спереть – так лучше проконсультироваться с людьми компетентными. И всякий приличный либеральный буржуй обзавелся для сбора информации своим карманным полковником госбезопасности – и держали полковников при себе, и показывали друзьям; так же точно богатые люди в ту пору заводили у себя в офисах большие аквариумы с пираньями и хвастались гостям – глядите, какие зубастые. И стравливали порой своих карманных полковников: а ну-ка, милок, собери на моего конкурента досье; у него там, правда, тоже свой полковник, такая бестия, но ты его обхитри – ну, вы же это дело умеете. И подглядывали в скважины, и жучки в ванной комнате ставили, и камеры наблюдения в сортире привинчивали, и голых девок в постель подкладывали – работали. И держали в столе полностью подготовленный к использованию компромат на конкурента: если что, если прикажут обстоятельства бизнеса, так сдать мерзавца в прокуратуру на расправу – нехай отвечает по всей строгости! Иные скажут: нехорошо! Но, во-первых, мера эта применялась крайне редко, уж если конкурент вовсе зарвался, а предосторожности ради подстраховаться надо. И потом: не надо забывать, что практика доносительства, подслушивания, подглядывания и разведывания была столь же присуща обществу, как употребление алкоголя. Ведь не отучишь же русского человека пить водку? И доносы строчить тоже не отучишь. Так ежели искать доносчика и разведчика, то из кого выбирать: из любителей посплетничать на лавочке во дворе или все же обратиться к профессионалам? И обратились – благо профессионалов много. Подобно безработным самураям – ронинам, – скитались потерявшие востребованность офицеры госбезопасности по стране; рыцари плаща и кинжала предлагали свои знания и умения буржуям – торговцам кальсонами и презервативами, магнатам, учреждающим банки, воротилам, захватывающим газ и нефть. И звали, звали верных самураев: послужи, разведай, разнюхай. Как же мы без госбезопасности! Постепенно эта рачительная предосторожность привела к тому, что деятельность офицеров госбезопасности, оставшихся было не у дел во время бурнокипящего либерального процесса, сызнова оказалась востребована и более того – в масштабах, превосходящих брежневские времена. Разница была лишь в том, что у богачей и коммерсантов возникло (согласно их общей демократической установке) стойкое убеждение, что госбезопасность они приватизировали и теперь бравые полковники представляют не государственную, а их личную безопасность – безопасность капиталистов. И когда мамки с няньками обозрели свои кадры и прикинули возможности, кого бы поставить сторожем страны – то и колебаться не стали: вот этого, нашего приватизированного, карманного полковника и назначим. Парень он зубастый, да свой, на привязи ходит. Приватизированный.
Назначение это некоторых людей удивило. Назначили именно такого, какой в прежние времена своим поручителям с удовольствием загонял бы иголки под ногти. Именно такого отыскали и управлять собою поставили – рехнулись, что ли? А ничего, говорили мамки с няньками, это мы нарочно такого нашли! Мы так нарочно удумали, чтобы офицера госбезопасности поставить во главе демократического государства! А? Каково? Парадоксально, а? Так ведь это, ахали скептики, противоречие какое получается. А никакого противоречия, говорили мамки с няньками, именно гэбэшник и есть в современном мире воплощение демократии. Поглядите на Пиночета и Франко! И скребли в затылке скептики, и смотрели, как молодцевато чеканит шаг по кремлевским коридорам лысеющий блондин.
«О, этот парень у меня на крючке! – говорил Дупель Балабосу, глядя вслед лысеющему блондину». – «Еще бы! – говорил Балабос Дупелю, – я его крепко держу! Столько лет у меня на зарплате сидел, и на мелкие шалости я глаза закрывал – пусть растет парнишка». – «А то, что он гэбэшников себе в помощники тянет, думаешь, ничего?» – «Отлично даже! Наши кадры, проверенные!» И умиленно смотрели они, как кремлевские коридоры заполняются сотрудниками госбезопасности. Вот и министром обороны стал офицер госбезопасности, вот и министром внутренних дел стал офицер госбезопасности, вот и оскандалившегося премьер-министра сместили, чтобы посадить нового премьера – гэбэшника. Тот, конечно, тоже не бессребреник, но человек с погонами, приличный. «Ну не странно ли получается, – говорили иные граждане, – мы демократическое общество строим, а управляют им гэбэшники. А нас учили, они против демократии. Чудно как-то». – «А ничего, – отвечали им стратеги и прозорливцы, – крепче запрут – покойнее спать будем: никто не покусится на краденое. С такими-то управляющими наша свобода как за каменной стеной». И улыбались друг другу мамки с няньками, пока офицеры госбезопасности занимали один кабинет за другим. И смотрели, как змеится по кремлевским коридорам череда офицеров – последнего, демократического призыва. Самураи либеральной идеологии, наемники демократии, они множились день ото дня, а купцы и мамки с няньками только жмурились от удовольствия. «Никуда офицеры эти от нас не денутся – это ведь мы их назначили! И разве генерал Пиночет не воплощение прогресса? Обыкновенный управляющий – назначили его, когда потребовалось, он и вывел Чили к свободе». – «Так он же генерал, – ахали скептики, – разве генерал к свободе выведет?» – «То-то и оно, что генерал он приватизированный, – разъясняли им. – Поймите, в то время, когда все ценности приватизируются – а что и есть демократия, как не приватизация общественно-государственных институтов: морали, идеологии, веры, – мы и армию, и генералов давно приватизировали. И наш блондин даром что на волка смахивает, он же наш, карманный. Ведь и Владик Тушинский, и Дима Кротов, да и сам Борис Кузин – главные идеологи реформ – кандидатуру одобрили: им, что ли, культурологам и мыслителям, бюджетом да налогами заниматься? Еще чего не хватало! Остался пустяк – убедить население, чтобы они за нашего офицера проголосовали, ну да ничего, подработаем этот вопрос. Народ должен понять: мы им не диктатора сватаем – администратора!»
«К тому же, – говорили мамки с няньками, – теперь во всем мире так: люди умные назначают стране управляющего – строгого, но послушного. Противоречие есть, но вся современная жизнь соткана из противоречий. На искусство поглядите: там такие парадоксы – ахнешь! Именно это противоречие выражает черный квадрат авангардиста Малевича. Декларация свободы от стереотипов, которая является демонстрацией регламента, – вот что должен увидеть в этом холсте врач-психиатр, и только. Можно использовать этот опус для психиатрического теста: пациенту показывают жестко ограниченную фигуру – воплощает она свободу? Воплощает, и не надо спорить!»
VII
Однако же людям свойственно спорить именно по пустякам. Как ни странно, столичные интеллектуалы спорили именно по поводу черного квадрата украинского авангардиста, а не по поводу назначения офицера госбезопасности главой демократического государства. Люди мыслящие оказывались по разные стороны интеллектуальных баррикад – будто не было в обществе иных поводов выяснить отношения, будто различия между банкирами и нищими, беженцами и рантье, мертвыми и торговцами оружием – будто бы разница эта была не столь существенна, как полемика вокруг черного квадрата. И каждый – каждый! – имел свое мнение. Это погасшее солнце, говорил один. Нет, это флаг свободы, говорил другой. Это закрытие искусства! Нет, это его открытие! Не обошел стороной этот спор и Рихтера с Татарниковым. Таковы были характеры у Соломона Моисеевича и Сергея Ильича, что какую простую пустяковину ни спроси у них, ну, допустим, в чем смысл черного квадрата, нарисованного украинским прогрессистом польского происхождения, – и вы получите противоположные ответы. Соломон Рихтер возбудился и сказал, что черный квадрат – это нимб Иуды. А Сергей Татарников ответил так: «А почему я должен, извините, гадать, что хотел сказать тот или иной недоумок? Мой сосед по Севастопольскому бульвару как напьется, так непременно в лифте испражняется. Прикажете его действия анализировать? Вольно вам копаться в таком, простите, дерьме. А мне психология дегенерата неинтересна».
И одновременно столь много общего было в характере знаний двух профессоров, что стоило спросить их о вещах более существенных, ну, скажем, о структуре римской администрации, как оба они принялись бы рассказывать примерно одно и то же. И тогда слушатель поразился бы согласованности их речей и сходному движению мыслей. Именно такой разговор и завязался между ними под влиянием опубликованных предвыборных воззваний. «Поглядите-ка, Сергей, – заметил Соломон Моисеевич, листая газету «Дверь в Европу», – партия Тушинского, партия Кротова, даже некий Петр Труффальдино организовал партию!» – «Партию масок, полагаю? – вставил ехидный Сергей Ильич, – или кукол?» – «Удивительно, сколько партий! – продолжал Рихтер. – Неужели Россию ждут свободные демократические выборы, такие же точно, как и на Западе? Поверить невозможно». – «А с чего это вы взяли, что понятие “демократичный” непременно обозначает “свободный”? – отвечал Сергей Ильич. – Со времен Каракаллы это уже не означает ничего внятного: удобная форма управления, и только. Отличается от тирании методом оболванивания населения и более ничем». – «Верно, Сережа, но разве эдикт Каракаллы изменил природу демократии? Ловкий трюк, не более, но идея свободы здесь ни при чем». Впрочем, Рихтер и Татарников сошлись на том, что эдикт Каракаллы от 212 года представлял определенный рубеж в западном администрировании. Формально уравнивая права всех граждан империи (и римлян, и тех, кто населял варварские провинции), он не создавал опасности для процесса преемственности власти, поскольку императорский Рим уже не зависел от народного мнения: пусть хоть варвары, хоть даже и рабы получили бы право голоса – никак власть от этих голосов уже не зависела. Передавалась власть практически по наследству, а свободные выборы шли своим чередом, и одно другому не мешало. Согласились ученые и в том, что эдикт симулирует общественное управление, создает иллюзию прав там, где права не играют роли. «А цель у эдикта была иная, – заметил Татарников, не упускавший случая покопаться в низменной природе человека, – заставить варваров платить те же налоги, что платят свободные граждане. Почитайте Диона Касия – там все точно изложено. Такие же ворюги, как и сегодня, обычное дело». – «Вы полагаете, – говорил Рихтер в тревоге, – что они задумали очередное зло? Но наличие десятка свободных партий говорит об успехе демократии, не так ли?» – «Взрослый же человек, – огрызался Татарников, – сами историю знаете. Для чего создают много партий? Чтобы ни одна не работала – а зачем еще? Для работы России всегда и одной партии хватало.
– Много партий! – раздраженно продолжал Сергей Ильич. – Это что! А много политических систем – не хотите ли? И все как на подбор демократические! Ну, додумались, что демократия – венец развития, и славно: давайте строить! А вот какую? Социалистическую или капиталистическую? С частной собственностью – или без нее? А ведь обе – демократии. Еще рабовладельческая была – и тоже демократия. А еще федеральная демократия имеется, и корпоративное государство Муссолини пробовали, да и Гитлер народным голосованием избран. А Сталин что, не демократ?»
«Позвольте», – Соломон Моисеевич поднимал брови.
«Послушайте, Иван Грозный лагерей не построил не потому, что гуманист был, – просто действовал в одиночку, а Сталин – демократ и опирался на массы. Мы с вами, Соломон, если разобраться, в своей жизни ничего, кроме демократии, и не видели: весь двадцатый век – одна сплошная демократия. Только никак не договорятся, какой способ для оболванивания населения самый действенный».
Соломон Рихтер возражал другу:
«Демократия, – говорил он, – сама из себя благо не производит. Только глупцы стремятся к демократии как к благу. Демократия способна законодательно поддержать мораль – если мораль в обществе существует. Да, – возвышал голос философ, – если утвердить цель истории, тогда демократия приведет общество к цели! Но если мораль отменили, а думают, что демократия есть мораль сама по себе, тогда плохо дело. Именно это имеет в виду Платон, говоря, что демократия движется к тирании».
«Соломон, – и горлышко бутылки звякало о стакан в руках Татарникова, – спорим мы о пустяках. Ну где сыскать такое правительство, чтобы было моральным? Философы, что ли, править будут?»
«Полагаю, – высокомерно отвечал Соломон Рихтер, – другого способа нет».
«Ах, – Татарников прихлебывал из стакана, – поговорим лучше о вещах существенных».
Однако ученые в экономические дебаты не вдавались. Подогревая эмоции друг друга, они, как обычно, сплетничали о политике, ругали культуру, так протекали их беседы – в спорах по пустякам, но в полном согласии по поводу вещей существенных.
Иное дело, следует ли относить к разряду вещей существенных такие понятия, как выбор правительства и т. п. Возможно, и прав был Сергей Ильич Татарников, равнодушно относившийся к собственной судьбе и к государственному строительству. С равнодушием и цинизмом говорил он, что развиваться демократия не может, поскольку демос к развитию не способен, а развитие демократии – сплошное жульничество. На всякое демократическое новшество смотрел он презрительно, голосовать не ходил и вел себя наплевательски. «Выбрали они уже нам царя, – говорил Татарников и прихлебывал водку, – не сомневаюсь, выбрали. Так зачем ходить, голосовать? Уже, наверное, и назначили, и не удивлюсь, если такую мерзость назначили, что и на фотографию смотреть будет тошно». – «Так ведь партий сколько, – волновался Рихтер, – давайте мы с вами, Сережа, за Владислава Григорьевича Тушинского пойдем голосовать – он, мне кажется, человек ответственный». – «А Дмитрий Кротов? – интересовался Татарников, – этот вам чем не угодил? Давайте за него проголосуем. Или хоть за этого, за Труффальдино. Вот оно, развитие принципов Каракаллы – теперь не только все варвары могут голосовать, но и выбирать можно каждого, да что толку?»
Дело даже не в том, что сокровищ Зое Тарасовне никто не предлагал и что бриллианты с яблоко величиной действительно были не ее, но в том, что расстояние между классами (и, соответственно, уклады и образы жизни в обществе) менялось стремительно. И касалось это не только России – страны, где не так давно все были равно бедны, – но всего мира, где соотношение богатого с бедным претерпело за последние двадцать пять лет существенные изменения. Выражаясь коротко, разница между богатым и бедным, разница почти незаметная в шестидесятые годы (или весьма искусно декорированная), сделалась в конце двадцатого века существенной, в двадцать первом же – вопиющей.
III
Благословенное время Европы – а именно те тридцать лет, что впоследствии будут вспоминать как недолгий золотой век, случившийся внутри века уродств и бедствий, – завершилось в семидесятых. Вписанное меж двух катастроф (тотальной войны и тотальных режимов – и деколонизации и разрушения социализма соответственно), это время наследовало у диктатур идею равенства и одновременно пользовалось привилегиями колониализма. То было уникальное время, когда равенство и свобода как бы нехотя соседствовали с прогрессом и колониальной политикой. И казалось вполне естественным, что антидиктаторские настроения разогреваются явайским ромом, а свободолюбивые прения проходят в дыму кубинских сигар. Вы видите, кричало это время, мы отвергли диктатуры, но не отвергли равенства! Мы за прогресс, а то, что в связи с его развитием придется пожертвовать общим равенством, нас не касается. А то, что равенству в определенной мере присуща диктатура, – этого мы и знать не желаем! Мы за то, чтобы развитие капитализма стимулировало либеральные ценности. А сигары из колониальных провинций – ну, это так случайно случилось: завозят какие-то цветные, и ладно, нехай завозят. Ненормальность и эфемерность этого положения дел явилась следствием того странного союза, что был заключен во имя победы над фашизмом. Недолгий союз коммунистического идеала (в наиболее действенном своем воплощении, т. е. в армейском) с капиталистической практикой (в наиболее привлекательном варианте – либерально-консервативном) оказался возможен в весьма определенном действии – войне, но формулировал этот союз свое существо крайне неопределенно – словом «антифашизм». Поскольку никто не был в состоянии внятно сформулировать, что такое фашизм и противником чего конкретно данный союз выступает, то и порожденный союзом эффект был туманен. Победители рассорились и поделили мир, и та часть мира, что явилась на короткий срок воплощением равенства и процветания одновременно, приняла это странное состояние за свою историческую миссию. Европе вдруг померещилось, что она и впрямь воевала не за свою жизнь, дома, колонии, доходы, но за абстрактную свободу и от имени этой невнятной и несформулированной идеи свободы и обладает правом говорить. И – что еще более удивительно – всему остальному миру это померещилось также. Европа жирела и богатела, наливалась соками и кровью всего прочего мира, но делала это ради высоких идеалов, во имя правды и блага других. Словно бы провидением специально была назначена миссия такая западному человеку – пользоваться продуктами прочих народов, пить и есть всласть и являть собой пример нравственного ориентира. Мир принял это ненормальное, фальшивое состояние за расцвет либерализма, и когда дети рантье, зажравшаяся парижская номенклатурная шпана, кричали в шестьдесят восьмом: «Мы – немецкие евреи!» – мир видел в этом не безобразие сытых подонков, не надругательство над памятью сожженных, но движение либеральной мысли. И никто не сказал крикливой сытой сволочи, потерявшей голову от своего безнаказанного состояния: стыдитесь, юноша, вам по-прежнему мерещится, что вы на баррикадах, а вы – в торговом ряду. Напротив, мир благосклонно усмотрел в хулиганстве зерна свободы. И действительно, зерна уже проклевывались, надо было лишь подождать всходов, чтобы определить – что именно за продукт пророс. Приняв (как наследие разрушенных режимов) идеалистическую идеологию и сохранив (как наследство колониального развития) капитал, западная цивилизация на недолгий срок представила модель развития, поразительную для рассудка восточного наблюдателя: то было равномерное преумножение богатств для людей свободных и равных, цветение всех садов и открытие всех горизонтов. Данная модель (при всей своей безусловной порочности и бессовестности) была принята восточными наблюдателями – прежде всего восточной интеллигенцией – как идеал человеческого развития. Впоследствии, то есть через весьма краткий промежуток времени, когда условия для безнаказанного кривлянья сделались затруднительны, мир по-прежнему считал то балованное, расслабленное и порочное состояние идеалом, и – можно не сомневаться – так и останется в памяти веков.
Силою вещей, то есть простым ходом дней и событий, это благословенное время пришло к концу; обнаружилось, что вне западного мира есть иной мир и с ним требуется тоже как-то обходиться. Там тоже живут люди, конечно, не столь интересные и далеко не так внимательно отобранные мировым селекционером, но все-таки люди. Про них на некоторое время забыли, а это было неверно: вне разумного управления колонии расшалились, экспорт-импорт расшатался, иммиграция туземного населения испортила пейзажи метрополии, количество беженцев, пересекающих планету справа налево, сравнялось в цифрах с миграциями Средних веков – словом, что-то разладилось в мире, который уже было вздохнул в облегчении. Наличие другого субъекта всегда неудобно, особенно же неприятно наличие множества других, когда надо распределять такой лимитированный продукт, как свобода. Добро бы, западные политики собирались тиранить туземцев – но нет, нынче нужно их одаривать свободой, а это затруднительно. За эту самую свободу Марианна на баррикадах кричала и Ла-Манш бойцы штурмовали в день D, а теперь что же – у алжирца, или афганца, или конголезца ее будет столько же? И получается, достанется она им за меньшую плату? Поскольку века унизительной жизни конголезца в расчет не берутся (обсуждаться может лишь осознанное стремление к демократии), то и выходит, что свободу конголезец обретет без усилий. Не в том дело даже, что жалко свободы для других, но подойдет ли всем один и тот же покрой законов, власти и управления? Поскольку очевидно, что все в один костюм просто не поместятся – резиновый он, что ли? – требуется готовить для других нечто особенное. И, надо сказать, дизайнеры сегодня изобретают удивительные модели – налезут на любой горб, так спрямят, хоть на конкурс красоты посылай. Разумеется, материал для туземного костюма берут подешевле, практичный и немаркий – ребятам все-таки надо работать. Стали рядить туземцев в новое платье – и всполошились: как-то само устроилось, что для малых сих закон сшит на особый лад, и это ведет к отмене идеи равенства, общих идеалов, прогресса, сочетающегося с либерализмом.
Однако работать надо – и взялись за работу; и стали кроить на чилийцев и аргентинцев, шить на Восточную Европу, пришлось отложить игрушки блаженной поры шестьдесят восьмого, засучить рукава: либерализм, оно, конечно, недурно, но есть такая вещь, как Бремя белых. Нести это бремя непросто, работа грязная, но необходимая. Понадеялись было западный мир и демократия отдохнуть от трудов праведных (и то сказать, сколько жертв унавозило почву для цветения либерализма), так нет же – опять надо вводить экспедиционные корпуса, опять лететь незнамо куда с точечными бомбардировками. Думалось и мечталось, что достаточно попросту явить миру пример свободной и благой жизни, и даже волю вот дали отдельным колониям – смотрите, олухи, учитесь. Так нет же, не удастся отдохнуть: им, чертям полосатым, волю дашь, они себе же во вред напортачат. И то не беда – пусть бы и напортачили себе во вред, но не удается кормить и одевать остров цивилизации в нецивилизованном мире, если общие представления о свободе и благе (то есть представления о благе в Африке и на Западе) разнятся. Нормальным положением дел является такое, при котором африканцы полагают, что благо Запада – это и их благо тоже, но так ведь этому еще учить и учить. И непросто научить, если существует противоречие в действиях гувернера: и свободу воспитаннику дать, и заставить воспитанника поступать в соответствии с требованиями не своей собственной свободы – а гувернерской. Вот ведь проблема.
В построении новой империи – а в том, что строить ее снова необходимо, соглашались лучшие умы – требовалось вернуться к истокам, к тому, с чем сталкивались все великие строители последних лет: Наполеон, Гитлер и Сталин. И преемнику их – хочешь не хочешь – требовалось найти метод, внушающий общие представления о благе, чтобы этим благом управлять.
IV
Наполеон, находясь на острове Св. Елены, с гениальной простотой обозначил свою былую цель: привести человечество к такому состоянию, чтобы везде был один язык, один закон, единый образ жизни. Империи часто рушились именно оттого, что разные уклады и разные образы жизни не сочетались меж собой – и расшатывали конструкцию. Наполеон простодушно обозначил цели своей кампании – и под этими целями сегодня легко поставил бы подпись любой радетель цивилизации.
«Русская война, – писал император, – должна была быть самой популярной в новейшие времена: это была война здравого смысла и настоящих выгод; война спокойствия и безопасности всех; война миролюбивая и консервативная».
(Но разве не во имя здравого смысла и настоящих выгод осуществлялись последние преобразования в просвещенном мире? Разве не во имя здравого смысла были предприняты акции, свергающие тоталитарные режимы? Разве не ради подлинных – а не утопических – выгод менялся экономический уклад завоеванных цивилизацией стран? И разве не во имя спокойствия и безопасности всех должны были быть уничтожены некоторые отдельные очаги волнений? Разве не миролюбием вызваны точечные бомбардировки? Разве о чем-то ином, кроме как о консервативном либерализме, пеклись в Сербии и Руанде, в Латинской Америке и Азии?)
«Это было для великой цели, для конца случайностей и для начала спокойствия. Новый горизонт, новые труды открывались бы, полные благосостояния и благоденствия всех. Система европейская была бы основана, вопрос заключался бы только в ее учреждениях».
(Положить конец историческим случайностям и прожектерству – разве не эту цель ставили перед собой политики сегодня? Разве не западную демократию – в терминологии Наполеона: европейскую систему – требовалось внедрить повсеместно, чтобы добиться благоденствия? И разве не благосостояние являлось заветной мечтой?)
«Удовлетворенный в этих вопросах и спокойный, я бы тоже учредил свой Конгресс и свой Священный союз. В этом собрании великих государей мы обсуждали бы наши интересы семейно и считались бы с народами, как исполнитель поручений с хозяином».
(Новый правитель будет не тираном, но рачительным администратором. Разве не именно эту цель – т. е. создание наднационального административного совета – ставили, утверждая Лигу Наций, ООН, «Большую Семерку» или другой надмирный начальственный орган? Транснациональные корпорации – по добыче нефти, например, – не явились разве примером для демократии? Требуется власть, которая была бы управляемой и наемной, вроде генерального директора корпорации. Руководящие указания он получит от людей компетентных, и никакие исторические фантазии не придут ему в голову.)
«Европа действительно скоро составила бы таким образом один и тот же народ, и всякий, путешествуя где бы то ни было, находился бы всегда в общей родине».
(Есть ли цель важнее? Унизительно сознавать, что свободы западные заканчиваются где-то на границах цивилизации, обрываются среди степей. Само предположение оскорбительно, что живут где-то дикари, удовлетворенные дикарством, и знать не хотят про Ива Кляйна, Ле Жикизду и Энди Ворхола.)
«Все реки были бы судоходны для всех, море было бы общим, постоянные большие армии уменьшены до гвардий государей. Всякую будущую войну я провозгласил бы защитительной, всякое новое распространение – антинациональным».
(Когда внутри цивилизации мир установлен, разве нужны внутренние армии? На рубежах империи, ограждая достижения прогресса, – вот где они должны стоять. И разве не является происходящее сегодня – то есть превентивная война цивилизации против варварства – войной сугубо защитительной?)
Здесь надо отвлечься от политического рассуждения и обратиться к жизни частной. Необходимо это для того, чтобы частным примером проиллюстрировать простое социальное положение: привлекательным образом жизни является чаще всего образ жизни недостойный. Подобно тому как ненормальное существование западного мира в послевоенные годы, существование паразитическое и распущенное, показалось остальному миру идеальным и свободным, так и жизнь некоторых светских персонажей – и жизнь подчас скверная – неожиданно кажется окружающим манящей и представляется достойной подражания.
V
Павел, замученный своим двусмысленным положением, уставший от вранья, неожиданно увидел, как его уродливый образ жизни привлекает к нему общественное внимание. И внимание это, что поразительно, было отнюдь не негативного свойства. То, что он, женатый человек, живет с любовницей, замужней женщиной, то, что делает он это открыто, у всех на виду, – оказалось привлекательно для общества настолько, что общество решило закрыть глаза на прочие проступки Павла: то есть на его консервативные взгляды, любовь к давно не актуальному искусству живописи, неприязнь к моде, etc. Никто не пенял ему, никто не упрекал его в разврате. Напротив – посторонние и вовсе неизвестные Павлу граждане выражали восхищение его свободным поведением, и оно (это ненормальное и постыдное поведение) служило им примером. Людям творческим – так негласно решило общественное мнение – позволено многое: разве они не исключительные личности, наделенные бурным темпераментом и фантазией? Так случается порой, что творческие люди нарочно высказывают эпатирующие общественный вкус убеждения – чтобы привлечь к себе общественное внимание. Так поступали Байрон, Рембо, Маяковский, Сыч. И общество, привлеченное поначалу зрелищем порока, впоследствии находит в пороке много привлекательного и, главное, объясняющего поведение творца. Если что-то и может оправдать в глазах сонного обывателя морализаторство Маяковского, то это беспорядочная половая жизнь пролетарского поэта, его вопиющий mеnage ? trois с Бриками. И если что-то и извиняет презрение Байрона к светскому обществу, то это его пренебрежение людьми вообще. Заинтересовалось бы общество Анатолием Сычом, выстави он напоказ свою любовь к сестре-горбунье? Нисколько, но общество склонно посмотреть на чувства к сестре сквозь пальцы, если принять во внимание адюльтер с хорьком. Казалось, нет ничего привлекательного в допотопных убеждениях Павла (что может быть скучнее сегодня, чем любовь к живописи?), и, однако, мнение Павла стали замечать в обществе. Неожиданно он стал модным персонажем. Его еще не приглашали на открытия мебельных бутиков и презентации молодого Божоле, но уже звали на карнавал в Венецию, в палаццо Клавдии Тулузской, где резвилась столичная публика. Ему говорили так: отчего же вы не прилетаете к нам в Дорсодуро? Все лучшие люди там, знаете Ле Жикизду? Его стали звать на столичные вернисажи, и модные люди подходили к нему и Юлии Мерцаловой – и раскланивались. Сам Аркадий Владленович Ситный улыбнулся ему полными своими губами и сказал: приятно познакомиться с вашей спутницей. И Павел гордился своей спутницей, ее красотой и странностью их отношений. Приезжайте со своей красавицей, вашей, хм, подругой, то есть, я хотел сказать, женой, говорили ему люди, доселе ему незнакомые, и подмигивали. В известном смысле показной разврат своею смелостью компенсировал скучные убеждения Павла. И то, что сам Павел свою жизнь развратной никак не считал, но, напротив, считал, что то, как он живет, и есть правильно и честно, делало его еще более интересным в глазах общества. Павел, разумеется, томился от двусмысленности и вранья, но полагал, что это небольшая плата за свободу и страсть.
И окружающие восхищались свободой Павла. Его новый образ жизни как бы внушал окружающим, что рутинные убеждения в искусстве (которые Павел отстаивал) не совсем уж и рутинны, что-то такое пикантное в них, пожалуй, есть. Вот этак взять да и вывернуть общие представления – а что? Совсем недурно может получиться. Есть изюминка в том, чтобы любить живопись в то время, когда все уже давно делают инсталляции! Если поглядеть на самого Павла и на то, как он живет, то сделается понятно, что такой модный человек попросту не станет искать немодных увлечений. Вот, кстати, поговаривают, что живопись опять возвращается, и даже, кажется, где-то в Штатах появился один модный живописец: изображает кое-что красками.
Как-то само собой устроилось так, что социальная активность Павла (выраженная в программных картинах и сожительстве с красивой женщиной) дала свои плоды. Его звали на выставки, Павел стал продавать картины за границей, летал, как и прочие модные художники, в Европу, стоял на вернисажах с шампанским в руке, менее удачливые люди ему завидовали. Сам Павел утвердился в мысли, что при условии упорной работы возможно настоять на своем и вернуть живопись в мир. Встречаясь с коллегами (а теперь он сталкивался с ними в аэропортах и на вокзалах, а вовсе не в мастерских, как бывало раньше), он думал про себя: мы совершенно разные – они стараются подделаться под этот мир, но я пытаюсь его изменить. Да, они впустили меня в свое общество по ошибке, не подумав. Я противник их искусства, я делаю иное, думал он. И тот факт, что произведения их покупали одни и те же люди, его не тревожил.
И краденая жизнь, за которую надо бы испытывать стыд, сделалась привычной для Павла – и он испытывал гордость за то, что живет не так, как все, и полагал, что его образ жизни, то есть образ жизни свободного и гордого человека, есть единственно правильный.
В отстаивании краденого и постыдного (будь то речь о Павле Рихтере, о западном мире шестидесятых или о доходах российской промышленной и политической элиты конца века) непременно наступает момент, когда краденое и стыдное надо привести в соответствие с внешними нормами закона. Не то чтобы Ефрем Балабос вдруг застеснялся своего персикового леса и семиэтажного особняка и восхотел жить сообразно общему образу жизни своих соплеменников; не то чтобы парижские рантье захотели покинуть кафе и устричные бары и поселиться в Африке; не то чтобы Павел Рихтер захотел (или мог, что в его случае равнозначно) расстаться с Юлией Мерцаловой – совсем нет. Но наступает момент, когда рантье, Балабосу и Павлу Рихтеру уже недостаточно, что мир их не осуждает и не считает их действия постыдными. Недостаточно и того, что мир считает их действия превосходными и правильными. Требуется сделать так, чтобы мир считал все прочее (включая самого себя) неправильным – а единственно правильным считал аномалию. Для этого необходимо переписать общий закон, так его переиначить, чтобы дурной образ жизни стал образцом.
Процесс перешивания костюма – причем перешивать приходится прямо на клиенте – процесс трудоемкий; для исполнения этой работы (если речь идет об историческом моменте) общество выбирает такого правителя, который бы не гнушался брутальными мерами и не опускал рук, заслышав жалобы.
VI
В России, когда пришла пора подобного шага, кандидата нашли легко.
Подчиняясь закону русской истории, который требовал сменить правителя с шевелюрой на лысого, а также потому, что президент с мясистой головой и бурными эмоциями пришел в негодность и употреблять его сделалось для мирового сообщества и отечественных воротил затруднительно; потому также, что этап первоначального накопления был завершен и новой задачей сделалось накопленное удержать, люди ответственные стали смотреть по сторонам: а кому бы передать управление этой бессмысленной землей? В пору наследуемой монархии такого вопроса бы не возникло; не возникло бы такого вопроса и в пору коммунистического режима – тогда правителем делался верный наследник идей. Но в отсутствие идей и в отсутствие прямого родства – кому передать бразды? Поговаривали – в пивных и на вокзалах, – что-де выращивает наш бурнопьющий президент себе достойного преемника; мол, держит он на закрытой даче некоего тайного воспитанника, вливает в него по каплям науку управления, ограждает от соблазнов мира, пестует юный ум, чтобы в свое время явить народам светлый лик непорочного правителя. Дескать, вот выпьет президент свою норму, развалит страну до нужного состояния, а потом заботливой рукой отомкнет потайную дверь – и выпорхнет наследный принц, обученный прекрасным и цивилизованным началам. По достоверности предположений это напоминало рассуждения о наследниках российских бандитов, получающих воспитание в закрытых колледжах западных государств. Мнилось, что живодеры и кромешники так обучат своих малолетних чад, что привьют им начатки человеколюбия и смирения. Иные домохозяйки и их обремененные заботами мужья лелеяли надежду, что дети тех, кто сегодня забирает у них деньги, будут им эти деньги возвращать. Вот погодите, говорили люди положительные и оптимистические, глядя вслед лимузину, что обдал их грязью, вот погодите только – его дети в Гарварде обучатся, приедут образованные и уже не станут на нас грязью брызгать. И в расчет не хотели брать доверчивые домохозяйки того, что за время обучения наследников в Гарварде лимузины станут только больше, а лужи глубже и грязнее.
Как бы то ни было, а проблема с переменой владетеля земли русской стала весьма существенной, и мамки с няньками стали поглядывать по сторонам: кому бы доверить стеречь награбленное, кто подойдет, кто не подведет? Ведь натырено-то немало – значит, и ответственности от нового хранителя краденого требовали строжайшей. Свой человек должен быть, проверенный. Казалось бы, зачем далеко ходить и искать, коли у порога Кремля дежурит Владислав Григорьевич Тушинский со товарищи; только мигни ему, он и бросится в цари и запирует в Грановитой палате с лихими своими компаньонами. А вот еще Дима Кротов произрастает – либеральнейших настроений юноша, чем этот-то плох? Его и на Западе привечают, и костюмы от Бриони он носить обучен, неужто не подходит? Напрасно, на приемах он смотрелся бы весьма недурно. Но проблема была в том, что упомянутые лица хоть и удовлетворительно смотрелись в политическом ландшафте и декларировали готовность взять власть немедленно и распорядиться ею либерально, но на самом деле получить эту самую власть нимало не желали. Той небольшой и неопределенной власти, что уже была у них в руках, им было совершенно достаточно; более того, это состояние неопределенной власти и соответствовало более всего их неопределенному представлению о свободе – и определенному представлению о безопасности и материальном благополучии.
«Ведь в чем беда с ними, – говорил министр топлива и энергетики Михаил Дупель своему коллеге по расхищению природных ресурсов и налаживанию демократической власти в стране Ефрему Балабосу, – в чем беда с ними: они уже получили все, что хотят, им больше и не нужно». – «Демократия в России им не нужна? – ярился Балабос. – Обратно в советскую власть захотели? Ведь рвался же, гаденыш, изменить страну в пятьсот дней – а теперь в кусты?» – «Ну зачем Владику Тушинскому президентство», – цинично улыбался Дупель, – а его домик в Брайтоне как же? А лекции в Кембридже? А как же пожертвования прогрессивных фондов – расстаться с ними?» – «Так ведь больше бы взял, – вздыхал Балабос, – если с умом бы подошел, конечно». – «Не нужно ему больше, – говорил Дупель с тоской, – ему хватает, нахапал уже. И все они так: как брать – первые, а ответственности – никакой. Нахапал – и бежать». – «Меня реформы, – говорил Балабос, – реформы меня тревожат. Кому их доверить? Ведь упустим, упустим страну!» И смотрели по сторонам Дупель с Балабосом, искали пытливым взглядом кандидата на престол.
«Мы не президента (какие теперь президенты – ха-ха! – еще чего не хватало!), мы управляющего нашим добром назначаем, – говорили друг другу Дупель и Балабос, Щукин и Левкоев, – вот поставим молодца, и пусть сундуки охраняет. Не нужны нам перепуганные интеллигенты вроде Владьки Тушинского, которые боятся к власти подступиться; нам нормальный менеджер нужен». Однако в поисках менеджера мамки с няньками да Балабос с Дупелем столкнулись с той же проблемой, что и рядовые бандиты в воспитании наследников, – проблема эта генетическая. Отрадно бы, конечно, вырастить в Гарварде лауреата всех наук, даром что он происходит от живодеров. А вот дадим ему знаний! Нехай просветится пацан! Но как-то так получается, что учится мальчик маркетингу да менеджменту, а, приезжая, берется за финку и обрез. Учили его, что ли, плохо? Из кого делать управляющего? Из интеллигентов – не получается, трусливы больно; из партийцев пробовали – не годится, спиваются; из бандитов – и хорошо бы, да больно ненадежный материал. Где его и откопать, принца-администратора, как не в своих же канцеляриях? Вот кто нам нужен – рядовой клерк, без амбиций, в нарукавниках и скромненький. А какая канцелярия у нас лучшая, ну-ка глянем! Известно какая – знаменитые органы, другие-то канцелярии все развалились. А каких там, в органах, администраторов выращивают? Известно каких.
Таким образом, переживая за сохранность уворованного, мамки с няньками назначили себе в управляющие чекиста, офицера госбезопасности, лысеющего блондина с волчьим взглядом. Его и искать долго не пришлось – всегда под рукой был: еще в самом начале реформ призвали люди прогрессивные к себе в помощь офицеров госбезопасности; кто же лучше гэбэшников владеет конкретной информацией – где что лежит. Уж если ты собрался, в целях прогрессивных и возвышенных, что-либо из народной казны спереть – так лучше проконсультироваться с людьми компетентными. И всякий приличный либеральный буржуй обзавелся для сбора информации своим карманным полковником госбезопасности – и держали полковников при себе, и показывали друзьям; так же точно богатые люди в ту пору заводили у себя в офисах большие аквариумы с пираньями и хвастались гостям – глядите, какие зубастые. И стравливали порой своих карманных полковников: а ну-ка, милок, собери на моего конкурента досье; у него там, правда, тоже свой полковник, такая бестия, но ты его обхитри – ну, вы же это дело умеете. И подглядывали в скважины, и жучки в ванной комнате ставили, и камеры наблюдения в сортире привинчивали, и голых девок в постель подкладывали – работали. И держали в столе полностью подготовленный к использованию компромат на конкурента: если что, если прикажут обстоятельства бизнеса, так сдать мерзавца в прокуратуру на расправу – нехай отвечает по всей строгости! Иные скажут: нехорошо! Но, во-первых, мера эта применялась крайне редко, уж если конкурент вовсе зарвался, а предосторожности ради подстраховаться надо. И потом: не надо забывать, что практика доносительства, подслушивания, подглядывания и разведывания была столь же присуща обществу, как употребление алкоголя. Ведь не отучишь же русского человека пить водку? И доносы строчить тоже не отучишь. Так ежели искать доносчика и разведчика, то из кого выбирать: из любителей посплетничать на лавочке во дворе или все же обратиться к профессионалам? И обратились – благо профессионалов много. Подобно безработным самураям – ронинам, – скитались потерявшие востребованность офицеры госбезопасности по стране; рыцари плаща и кинжала предлагали свои знания и умения буржуям – торговцам кальсонами и презервативами, магнатам, учреждающим банки, воротилам, захватывающим газ и нефть. И звали, звали верных самураев: послужи, разведай, разнюхай. Как же мы без госбезопасности! Постепенно эта рачительная предосторожность привела к тому, что деятельность офицеров госбезопасности, оставшихся было не у дел во время бурнокипящего либерального процесса, сызнова оказалась востребована и более того – в масштабах, превосходящих брежневские времена. Разница была лишь в том, что у богачей и коммерсантов возникло (согласно их общей демократической установке) стойкое убеждение, что госбезопасность они приватизировали и теперь бравые полковники представляют не государственную, а их личную безопасность – безопасность капиталистов. И когда мамки с няньками обозрели свои кадры и прикинули возможности, кого бы поставить сторожем страны – то и колебаться не стали: вот этого, нашего приватизированного, карманного полковника и назначим. Парень он зубастый, да свой, на привязи ходит. Приватизированный.
Назначение это некоторых людей удивило. Назначили именно такого, какой в прежние времена своим поручителям с удовольствием загонял бы иголки под ногти. Именно такого отыскали и управлять собою поставили – рехнулись, что ли? А ничего, говорили мамки с няньками, это мы нарочно такого нашли! Мы так нарочно удумали, чтобы офицера госбезопасности поставить во главе демократического государства! А? Каково? Парадоксально, а? Так ведь это, ахали скептики, противоречие какое получается. А никакого противоречия, говорили мамки с няньками, именно гэбэшник и есть в современном мире воплощение демократии. Поглядите на Пиночета и Франко! И скребли в затылке скептики, и смотрели, как молодцевато чеканит шаг по кремлевским коридорам лысеющий блондин.
«О, этот парень у меня на крючке! – говорил Дупель Балабосу, глядя вслед лысеющему блондину». – «Еще бы! – говорил Балабос Дупелю, – я его крепко держу! Столько лет у меня на зарплате сидел, и на мелкие шалости я глаза закрывал – пусть растет парнишка». – «А то, что он гэбэшников себе в помощники тянет, думаешь, ничего?» – «Отлично даже! Наши кадры, проверенные!» И умиленно смотрели они, как кремлевские коридоры заполняются сотрудниками госбезопасности. Вот и министром обороны стал офицер госбезопасности, вот и министром внутренних дел стал офицер госбезопасности, вот и оскандалившегося премьер-министра сместили, чтобы посадить нового премьера – гэбэшника. Тот, конечно, тоже не бессребреник, но человек с погонами, приличный. «Ну не странно ли получается, – говорили иные граждане, – мы демократическое общество строим, а управляют им гэбэшники. А нас учили, они против демократии. Чудно как-то». – «А ничего, – отвечали им стратеги и прозорливцы, – крепче запрут – покойнее спать будем: никто не покусится на краденое. С такими-то управляющими наша свобода как за каменной стеной». И улыбались друг другу мамки с няньками, пока офицеры госбезопасности занимали один кабинет за другим. И смотрели, как змеится по кремлевским коридорам череда офицеров – последнего, демократического призыва. Самураи либеральной идеологии, наемники демократии, они множились день ото дня, а купцы и мамки с няньками только жмурились от удовольствия. «Никуда офицеры эти от нас не денутся – это ведь мы их назначили! И разве генерал Пиночет не воплощение прогресса? Обыкновенный управляющий – назначили его, когда потребовалось, он и вывел Чили к свободе». – «Так он же генерал, – ахали скептики, – разве генерал к свободе выведет?» – «То-то и оно, что генерал он приватизированный, – разъясняли им. – Поймите, в то время, когда все ценности приватизируются – а что и есть демократия, как не приватизация общественно-государственных институтов: морали, идеологии, веры, – мы и армию, и генералов давно приватизировали. И наш блондин даром что на волка смахивает, он же наш, карманный. Ведь и Владик Тушинский, и Дима Кротов, да и сам Борис Кузин – главные идеологи реформ – кандидатуру одобрили: им, что ли, культурологам и мыслителям, бюджетом да налогами заниматься? Еще чего не хватало! Остался пустяк – убедить население, чтобы они за нашего офицера проголосовали, ну да ничего, подработаем этот вопрос. Народ должен понять: мы им не диктатора сватаем – администратора!»
«К тому же, – говорили мамки с няньками, – теперь во всем мире так: люди умные назначают стране управляющего – строгого, но послушного. Противоречие есть, но вся современная жизнь соткана из противоречий. На искусство поглядите: там такие парадоксы – ахнешь! Именно это противоречие выражает черный квадрат авангардиста Малевича. Декларация свободы от стереотипов, которая является демонстрацией регламента, – вот что должен увидеть в этом холсте врач-психиатр, и только. Можно использовать этот опус для психиатрического теста: пациенту показывают жестко ограниченную фигуру – воплощает она свободу? Воплощает, и не надо спорить!»
VII
Однако же людям свойственно спорить именно по пустякам. Как ни странно, столичные интеллектуалы спорили именно по поводу черного квадрата украинского авангардиста, а не по поводу назначения офицера госбезопасности главой демократического государства. Люди мыслящие оказывались по разные стороны интеллектуальных баррикад – будто не было в обществе иных поводов выяснить отношения, будто различия между банкирами и нищими, беженцами и рантье, мертвыми и торговцами оружием – будто бы разница эта была не столь существенна, как полемика вокруг черного квадрата. И каждый – каждый! – имел свое мнение. Это погасшее солнце, говорил один. Нет, это флаг свободы, говорил другой. Это закрытие искусства! Нет, это его открытие! Не обошел стороной этот спор и Рихтера с Татарниковым. Таковы были характеры у Соломона Моисеевича и Сергея Ильича, что какую простую пустяковину ни спроси у них, ну, допустим, в чем смысл черного квадрата, нарисованного украинским прогрессистом польского происхождения, – и вы получите противоположные ответы. Соломон Рихтер возбудился и сказал, что черный квадрат – это нимб Иуды. А Сергей Татарников ответил так: «А почему я должен, извините, гадать, что хотел сказать тот или иной недоумок? Мой сосед по Севастопольскому бульвару как напьется, так непременно в лифте испражняется. Прикажете его действия анализировать? Вольно вам копаться в таком, простите, дерьме. А мне психология дегенерата неинтересна».
И одновременно столь много общего было в характере знаний двух профессоров, что стоило спросить их о вещах более существенных, ну, скажем, о структуре римской администрации, как оба они принялись бы рассказывать примерно одно и то же. И тогда слушатель поразился бы согласованности их речей и сходному движению мыслей. Именно такой разговор и завязался между ними под влиянием опубликованных предвыборных воззваний. «Поглядите-ка, Сергей, – заметил Соломон Моисеевич, листая газету «Дверь в Европу», – партия Тушинского, партия Кротова, даже некий Петр Труффальдино организовал партию!» – «Партию масок, полагаю? – вставил ехидный Сергей Ильич, – или кукол?» – «Удивительно, сколько партий! – продолжал Рихтер. – Неужели Россию ждут свободные демократические выборы, такие же точно, как и на Западе? Поверить невозможно». – «А с чего это вы взяли, что понятие “демократичный” непременно обозначает “свободный”? – отвечал Сергей Ильич. – Со времен Каракаллы это уже не означает ничего внятного: удобная форма управления, и только. Отличается от тирании методом оболванивания населения и более ничем». – «Верно, Сережа, но разве эдикт Каракаллы изменил природу демократии? Ловкий трюк, не более, но идея свободы здесь ни при чем». Впрочем, Рихтер и Татарников сошлись на том, что эдикт Каракаллы от 212 года представлял определенный рубеж в западном администрировании. Формально уравнивая права всех граждан империи (и римлян, и тех, кто населял варварские провинции), он не создавал опасности для процесса преемственности власти, поскольку императорский Рим уже не зависел от народного мнения: пусть хоть варвары, хоть даже и рабы получили бы право голоса – никак власть от этих голосов уже не зависела. Передавалась власть практически по наследству, а свободные выборы шли своим чередом, и одно другому не мешало. Согласились ученые и в том, что эдикт симулирует общественное управление, создает иллюзию прав там, где права не играют роли. «А цель у эдикта была иная, – заметил Татарников, не упускавший случая покопаться в низменной природе человека, – заставить варваров платить те же налоги, что платят свободные граждане. Почитайте Диона Касия – там все точно изложено. Такие же ворюги, как и сегодня, обычное дело». – «Вы полагаете, – говорил Рихтер в тревоге, – что они задумали очередное зло? Но наличие десятка свободных партий говорит об успехе демократии, не так ли?» – «Взрослый же человек, – огрызался Татарников, – сами историю знаете. Для чего создают много партий? Чтобы ни одна не работала – а зачем еще? Для работы России всегда и одной партии хватало.
– Много партий! – раздраженно продолжал Сергей Ильич. – Это что! А много политических систем – не хотите ли? И все как на подбор демократические! Ну, додумались, что демократия – венец развития, и славно: давайте строить! А вот какую? Социалистическую или капиталистическую? С частной собственностью – или без нее? А ведь обе – демократии. Еще рабовладельческая была – и тоже демократия. А еще федеральная демократия имеется, и корпоративное государство Муссолини пробовали, да и Гитлер народным голосованием избран. А Сталин что, не демократ?»
«Позвольте», – Соломон Моисеевич поднимал брови.
«Послушайте, Иван Грозный лагерей не построил не потому, что гуманист был, – просто действовал в одиночку, а Сталин – демократ и опирался на массы. Мы с вами, Соломон, если разобраться, в своей жизни ничего, кроме демократии, и не видели: весь двадцатый век – одна сплошная демократия. Только никак не договорятся, какой способ для оболванивания населения самый действенный».
Соломон Рихтер возражал другу:
«Демократия, – говорил он, – сама из себя благо не производит. Только глупцы стремятся к демократии как к благу. Демократия способна законодательно поддержать мораль – если мораль в обществе существует. Да, – возвышал голос философ, – если утвердить цель истории, тогда демократия приведет общество к цели! Но если мораль отменили, а думают, что демократия есть мораль сама по себе, тогда плохо дело. Именно это имеет в виду Платон, говоря, что демократия движется к тирании».
«Соломон, – и горлышко бутылки звякало о стакан в руках Татарникова, – спорим мы о пустяках. Ну где сыскать такое правительство, чтобы было моральным? Философы, что ли, править будут?»
«Полагаю, – высокомерно отвечал Соломон Рихтер, – другого способа нет».
«Ах, – Татарников прихлебывал из стакана, – поговорим лучше о вещах существенных».
Однако ученые в экономические дебаты не вдавались. Подогревая эмоции друг друга, они, как обычно, сплетничали о политике, ругали культуру, так протекали их беседы – в спорах по пустякам, но в полном согласии по поводу вещей существенных.
Иное дело, следует ли относить к разряду вещей существенных такие понятия, как выбор правительства и т. п. Возможно, и прав был Сергей Ильич Татарников, равнодушно относившийся к собственной судьбе и к государственному строительству. С равнодушием и цинизмом говорил он, что развиваться демократия не может, поскольку демос к развитию не способен, а развитие демократии – сплошное жульничество. На всякое демократическое новшество смотрел он презрительно, голосовать не ходил и вел себя наплевательски. «Выбрали они уже нам царя, – говорил Татарников и прихлебывал водку, – не сомневаюсь, выбрали. Так зачем ходить, голосовать? Уже, наверное, и назначили, и не удивлюсь, если такую мерзость назначили, что и на фотографию смотреть будет тошно». – «Так ведь партий сколько, – волновался Рихтер, – давайте мы с вами, Сережа, за Владислава Григорьевича Тушинского пойдем голосовать – он, мне кажется, человек ответственный». – «А Дмитрий Кротов? – интересовался Татарников, – этот вам чем не угодил? Давайте за него проголосуем. Или хоть за этого, за Труффальдино. Вот оно, развитие принципов Каракаллы – теперь не только все варвары могут голосовать, но и выбирать можно каждого, да что толку?»