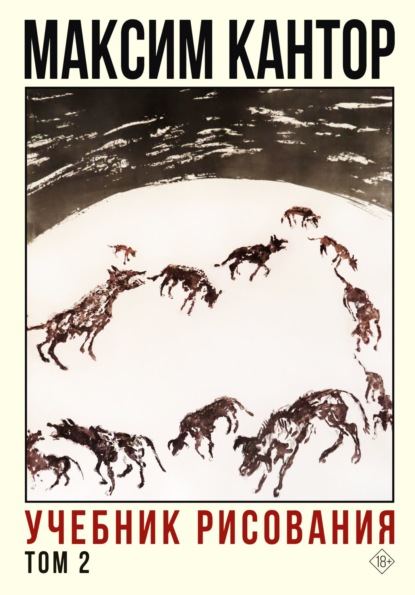По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Учебник рисования. Том 2
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Легко тебе рассуждать! Легко даются знания, когда ты происходишь из такой семьи. Хорошо рассуждать, когда тебя воспитывали такой отец и такой дед.
– Что ты знаешь про отца? – спросил Павел. Об отце он говорил редко, не с кем было говорить. – Ты сказала, Леонид не любил его.
– Гораздо больше я знаю про твою мать, – сказала девушка, – много лет назад я плакала из-за нее.
– Неужели?
– Я плакала ночи напролет, ревновала к ней. Я уверена (женщины чувствуют такие вещи), они любовники уже давно. Может быть, еще тогда, когда мы с Леонидом были женаты. Однажды я пришла домой и увидела у себя в спальне твою мать. Она сидела ко мне спиной, но увидела меня в зеркале – сидела перед моим зеркалом, красила губы. Мы не сказали друг другу ни слова, но как же мы друг друга ненавидели.
– Она ведь старше тебя. По всей логике, такой любитель жизни, как Леонид, должен был уйти от нее – к тебе. Все вывернуто наизнанку. Как странно, – говорил Павел, – пойми, мне и оскорбительно, и странно, и дико: все чувства приходят одновременно – я не знаю, какое чувство сильнее. Все так перемешано. Патология, фрейдистская история – она вовсе не для меня. И Леонид, который женился на моей матери, а до того был твоим мужем, – воплощение этой странности. Я ничего не понимаю.
– Значит, ты не понимаешь в пороке, – говорила девушка и целовала Павла. – Разве ты не знаешь, что Дон Жуану важно покорять сердца, подчинять волю, а чьи сердца и чью волю – все равно. Возраст ни при чем. И подумай: для Леонида важнее было унизить твоего отца. В этом и выражена его страсть к твоей матери.
– Зачем так?
– Леонид ненавидел твоего отца. Он его всегда ненавидел, – с непонятным Павлу чувством сказала девушка. – И оттого что я знала, что Леонид – человек мелкий и завистливый, я понимала, что твой отец – очень хороший. И потом, насколько я знаю, твой отец не принимал участия в их застольях.
– Нет.
– Они не прощали тех, кто к ним не ходит.
– Почему? – спросил Павел, хотя знал почему. Ему понравилось, как она ответила:
– Потому что уже тогда было понятно, что следующая революция будет культурной революцией. Они не просто пили – они уже тогда распределяли портфели в министерстве. Мне одно странно: кому понадобились такие неумные люди? Я ведь доподлинно знаю, что Леонид неумен.
VII
Они лежали рядом в постели, и девушка рассказывала. Она описывала то, что Павел прекрасно знал и без ее рассказа: пьяные вечера у Леонида, шутки и веселое застолье до утра. Она рассказывала – как всегда остроумно – про шумных молодых людей из творческого союза «Синие носы»; про поэтов, читавших бессмысленные стихи под общий смех; про питерских интеллектуалов, одетых в тельняшки, которые пили водку и считались новаторами; и про женщин, которые засыпали за столом. Они всегда притворялись кем-нибудь, говорила девушка, каждый из них играл какую-нибудь роль, и не было ни одного человека, ведущего себя просто. Я смотрела на них и думала: если, например, с этого питерского поэта снять тельняшку, то вместе с тельняшкой исчезнет и его дарование. Как же его опознать без тельняшки? Ведь отдельных от одежды мыслей ни у кого из них нет. Они писали стихи, похожие на стихи, и рисовали картины, похожие на картины. Одетые под кого-то молодые люди, загримированные под чужие страсти любовные истории – все было ненастоящее. Надо было бежать. Когда я ушла оттуда – у меня было чувство, что я уволилась из цирка: все остальное в жизни было менее шумно.
– Но ты сам знаешь эту жизнь, – сказала она.
– Пойми, – говорил Павел. Ему показалось, что сейчас он сумеет объяснить ей, что именно он чувствует, – пойми, пожалуйста. Это важно, чтобы ты услышала меня. Я оттого чувствую себя оскорбленным твоими мужьями и любовниками, что всю жизнь претендовал на особенную судьбу. У меня – так я думал – всегда в жизни будет такое, чего не было ни у кого, никогда. Я всегда знал, что у меня уникальная судьба. Нет, даже не так, надо сказать еще сильнее: я знал, что не могу смешать свою жизнь и судьбу с чем-то обычным, заурядным. И едва я оказывался в компании с общими интересами, взглядами и шутками – мне делалось не по себе. Никаких оснований для этого у меня не было, у нас простая семья и кровь не благородная. Странно мне, безродному полукровке, дикой смеси рязанской и еврейской кровей, считать себя избранником. Но так получилось, пойми, так получилось. Мы, Рихтеры, всегда были особенными – спроси, тебе скажет любой. Мы всегда и все делали не так, как прочие, всегда шли наперекор общим правилам. И то, какой у меня дед, и то, какой был отец, определило всю мою жизнь. Я был ребенком, слышишь меня, ребенком, и я уже знал, что избран. Я даже не знал на что избран, – но знал, что я избранник. Впрочем, – поправил себя Павел, – я знал на что. Не уверен был, как именно я это сделаю, но знал, что делать. Я чувствовал, что судьба моей семьи – спасти Россию. Не смейся, я знаю, это смешно звучит, но ты не смейся. Когда-то, очень давно, когда мой дед Соломон Рихтер был на войне, он написал такие стихи. – И Павел прочел строчки, которые были ему дороже всего: – «Что б ни были мы и где б, но только б землю России реки наших судеб, иссохшую, оросили». Тебе не нравится? – спросил он в темноте.
– Это хорошие строчки, – сказала девушка из темноты.
– Да, их не надо редактировать. Лучшие люди, каких я встречал, жили так, как написано в этих строчках. И я знал, что эти строчки написаны про меня тоже. Каждый из нас брал единственную судьбу и никакой иной не хотел. Это сделало нас такими странными и неудобными в общении. Мы – ненормальные, с идеей избранничества, может быть, пустой идеей, но кто знает наверное? Прости, я долго говорю, но мне важно сказать.
– Я сразу увидела в тебе и гордость, и желание стоять отдельно.
– Мы живем в такое необычайное время. Все здание России, огромной и страшной страны, большой, как целый мир, – вдруг треснуло и зашаталось, с него сорвало крышу. Я спрашиваю себя: значит ли это, что весь мир расшатался? Мы, живущие здесь, решили, что это случилось с одной лишь Россией, из-за того, что коммунизм плох. Но понимаешь, если дует столь сильный ветер, что шатается огромный дом, то нельзя поручиться и за все остальное в мире. И если я собирался отвечать за Россию, но получилось так – случайно получилось так, – что расшатался весь мир, значит, сегодня я отвечаю за весь мир. Я не отказываюсь. Но возможно это делать, только если я знаю, что я защищен с тыла, что у меня прикрыта спина. И это ты, это твоя любовь закрывает меня. Ты слышишь меня?
Павел обнимал девушку, и она говорила ему:
– Я знаю, ты один все сможешь. Я сразу поняла, что ты сильный.
– Подожди. Я не договорил. Мне нужно сказать до конца. Хотя бы в одном я должен быть уверен – в твоей любви. Я не могу быть уверен в том, что у меня хватит сил и что меня не свалит этот ветер. Я не могу быть уверен в том, что достанет ума и таланта. Но зачем-то мне дано это чувство избранничества – и я следую ему. Так хотя бы в одном пусть это избранничество меня не подведет – в женщине, которую обнимаю. Меня подведут руки и голова, предадут все вокруг, но хотя бы здесь, в самом близком, – пусть хотя бы здесь будет надежно. Я должен знать, что моя милая не разменена и не разменяла меня, что ее никто не целовал и она меня не предавала.
– Ты можешь не волноваться, – сказала она, – я человек надежный.
– Подожди, я не договорил. Я хотел рассказать тебе про столичных интеллектуалов, про тех, кого ты и сама видела много раз. Про тех, что нас окружали, что сидели у тебя в гостях. Ничего на свете я так не хотел, как интеллектуального братства. С детства я привык рассуждать о платоновской академии и Телемской обители. Потому я сблизился с диссидентами в те брежневские годы, что видел в них интеллект, бесстрашный перед оружием. А вслед за диссидентами пришли интеллигенты новой формации, воплощенная свобода. Вот где подлинный Телем! Сперва я ходил на их собрания и пьяные вечера и слушал их разговоры.
И потом мне стала оскорбительна профанация интеллекта. Я видел этих полупьяных, полуобразованных нахалов, которым кто-то сказал, что они художники и философы. И они страстно поверили! Оттого поверили, что никогда, даже в тяжелом долгом сне не видели настоящего художника. Оттого поверили, что их идеалом были такие же, как и они, прохвосты с Запада – пустые неумные люди. Я видел вечно булькающую мелкими страстями столичную художественную жизнь – эта жизнь была омерзительна. Я видел пустых людей с пустыми головами, которые старательно воспроизводили поведение творцов, как они их запомнили по популярным фильмам и брошюрам. Они драпировали себя в шарфы и шляпы, ругались матом, говорили слова, смысла которых не понимали, много пили и кривлялись. Тогда все поверили, что кривлянье есть путь к свободе. Помнишь эти теории карнавальной культуры и подобную чепуху? Говорили, что время нуждается в соленой омолаживающей шутке. Но время не менее того нуждалось в смысле и знании, а скоморохи таковых не производят. Я видел хвастливых, ничего не сделавших, ничего не умеющих людей, про которых распускали слухи, что они герои, только потому, что они в публичных местах пускали ветры, и вместо обычных штанов носили галифе, и лили краску на стены. Некоторые из них были милы, они ведь не все противные. Но они были пусты и дрянны, эти люди, и они инстинктивно ненавидели все настоящее. Для них не стало худших врагов, чем картины и книги, – по той простой причине, что в картинах и книгах сказано что-то, что может поставить под сомнение их права. Так некрасивая женщина убирает из дома зеркала, картины, фотографии – все, что скажет о ней правду. Они раздавали себе чины, говорили друг про друга: мы – классики авангарда. Вот этот, говорили они, патриарх соцарта, но я знал, что этот человек отпускает шутки про Брежнева только потому, что не умеет говорить всерьез. Говорили, вот это – классик концептуализма, но я знал, что этот дурачок рисует крестики и нолики потому, что не смог бы даже нарисовать кошку – если бы его заставили. Они бездарности, я знал и мыслями, и чувствами, и всем существом своим – они бездарны. И это видно, не может весь мир быть слеп. Так зачем же делать из них интеллектуалов? Но оказалось, что из них нарочно, планомерно делают интеллектуалов. И если поглядеть на это внимательно – становится понятно зачем. Когда-то из кучки инакомыслящих делали сумасшедших, это была генеральная линия партии – так делали, чтобы не дать расшатать государство. Но в дальнейшем поступили проще: из большой группы недоумков и неучей стали делать свободомыслящих – и это преследует ту же самую цель. Это тот же процесс, тот же самый. Добавь к этому то, что я говорил, про большой дом, с которого сорвало крышу, который треснул и покачнулся. Если подул сильный ветер, то подобное случилось во всем мире. И я стал ездить по миру и смотреть. И увидел то же самое; а раз так, если в Берлине пустозвон считается интеллектуалом, почему его двойник не сойдет за интеллектуала в России? Оказалось, что именно эта среда, пустая и хвастливая среда потребовалась миру для создания нового общества. Кому так надо? Кому-то понадобилось именно эту дрянную, порочную компанию объявить состоятельной интеллектуальной средой. Кому-то потребовалось сделать разум бессильным. И кажется, я знаю кому.
– Но разве не всегда, – спросила она, – авангард шутит, свергая классику?
– Разве авангард кого-то свергает сейчас? – спросил он. – Кого же? Дряхлых пейзажистов, лирических поэтов, что дохнут в малогабаритных квартирах, – разве что их и свергает авангард, больше свергать некого. Они победили – при чем же здесь авангард? Это уже основные части. Над всей Испанией безоблачное небо. Леонид Голенищев, твой муж…
– Он не муж мне.
– Леонид Голенищев заправляет культурой. Кого свергают они, апостолы соленой шутки и борцы с традицией? Они сами – традиция. И основательнее, чем их шутка, ничего в мире нет. Разве не смешно? Он не муж тебе – зато теперь он муж моей матери, теперь он спит в постели моего отца. Разве не смешно? Давай же смеяться.
– Ты слишком велик, – говорила она, – чтобы ссориться с ними. Не обращай внимания на этих людей. Не замечай их. Что тебе эти «синие носы»?
– Мне отчего-то запомнилась выставка «Давай!». Все время возвращаюсь мыслями к этой выставке, хотя прочие ничем от нее не отличались. Ты помнишь эту выставку: смешные, неумные, немолодые люди кривляются, пляшут и развлекают западную публику. Казалось бы, уже надоело европейцам смотреть русское искусство, но все-таки эту выставку посмотрели. Что именно давай, кому давай? Неважно. Устроили эту выставку в то время, когда давать русским было уже нечего – у России все и так забрали. Уже не надо агитировать за развал культуры – от культуры не осталось ничего. Уже не надо подбадривать хапуг и кричать «давай!» спекулянтам – из страны утащили все. И однако сызнова прокричали этот бодрящий призыв – и высыпали на сцену немолодые «синие носы», пожилые юноши в тельняшках. И опять стали пить водку, материться и кукарекать. Ничего, наберем по зернышку и последнее отдадим; так и с любовью – всегда найдется, что еще отдать, даже если все уже отдали. Давай! Мало ли, что все растащили, – найдется какой-нибудь завалящий заводишко, так и его приберем. Найдется и еще пара «синих носов» – и споют, и спляшут! И Запад покосился благосклонно на «синие носы»: славно в России дикари отплясывают. Именно эта выставка стала для меня последней. Я решил никогда и никуда не ходить, ничего не смотреть. Пусть они будут сами по себе. Ты слушаешь меня?
– Да, – сказала девушка. – Но зачем ты так сказал про любовь? Я не отдавала своей любви, я не говорила: давай!
– И я думал, они до меня никогда не доберутся. Я не подавал никому из них руки, не здоровался с ними, я их презирал. Приходил в эту мастерскую, закрывал дверь – и оставался с Брейгелем и Гойей, с Эль Греко и Рембрандтом, а шутники и скоморохи – они словно и не существовали больше. С их ужимками, прибауточками я прощался, закрывая дверь. Я становился к мольберту, я каждый день писал – и между мной и ними вставали мои холсты, – Павел говорил и чувствовал облегчение, освобождаясь от давившего груза ненависти. Давно уже, нет, не давно, но вообще никогда не говорил он с такой свободой: не нужно было притворяться, не нужно было подбирать слова. – Для того чтобы рассказать тебе о своей ревности, мне надо объяснить другое чувство, то чувство, что противно ревности. Я уже говорил, ревновать можно к равному. Я не ревную тебя к другим, к тем мужчинам. И этих весельчаков я к искусству не ревную. Я ненавижу их. Всегда их ненавидел. За то ненавижу, что они променяли искусство на прогресс, первородство на чечевичную похлебку. Ревную ли Голенищева к матери? Ненавижу. Ненавижу за кривую улыбочку, выпускаемую сквозь черную бороду, за смерть своего отца, за то, что этот улыбчивый самодовольный мерзавец вошел в мой дом. Они победили – везде. Но не до конца, думал я, не до конца. Им меня не достать. Но вот они залезли ко мне в постель.
Девушка давно уже плакала. Она лежала ничком и тяжело плакала, поднимала голову от подушки, вскрикивала и плакала опять. Павел обнимал ее, говорил, чтобы она успокоилась, но она плакала и плакала.
– Прогони меня, – твердила она, – прогони.
VIII
Стояла холодная тихая ночь, и ее плач слышен был во всем доме – сквозь халтурные стены хрущевской постройки. Успокойся, говорил Павел, но сам думал о другом. Что надо сделать, думал он, что выбрать? Терпеть все это, то, что в принципе нестерпимо, – или идти напролом и бросить то последнее, что здесь удерживает? Я не могу больше выносить это фальшивое бытие. Быть так – значит не быть вовсе. Если вся система ценностей, принятая в этом обществе, фальшива, если все институты, все правила – ложь, если все то, что они называют культурой, – вульгарная шутка, то для чего это нужно выносить? Если те, кого называют интеллигентами, – трусы и лакеи, если у власти – коррумпированные прохвосты, то так и следует сказать: они лакеи и прохвосты. Если министр культуры – мздоимец, а его заместитель – вор, то так и надо сказать и положить конец этому спектаклю. Если президент и его министры – жулье, то отчего же не сказать именно так? И плевать, что будет. Они думают, что правила этой игры нельзя нарушить – и думают так только оттого, что каждому игроку есть что терять: кому дом, кому семью, кому славу. И всегда найдется этот теплый уютный уголок, который хочется защитить и ради этого согласиться с тем, что с дома сорвало крышу. И мы ходим на приемы, жмем руки, шутим и жрем то, что нам дают. Глядишь, и жизнь пройдет, и не придется ничего менять, а там оно, может, и само устроится. Но мне нечего терять, и этого уютного уголка у меня нет. В моей теплой постели переночевало уже столько посторонних мужчин, что постель больше не греет. Так почему же ты медлишь?
Легко думать смелые мысли, когда та, которую любишь, лежит рядом. Девушка перестала плакать и уснула, и Павел уснул, согретый ее теплом. Утром девушка уходила от него, и Павел смотрел ей вслед, и в эту минуту ему не хотелось ничего иного, но только вернуть ее, прижать к себе, гладить худую ключицу. Она повернулась посмотреть на него, и свет не погашенного с ночи фонаря выхватил из утренней темноты ее прекрасное лицо. Я не отдам ее, думал Павел, я ни за что ее не отдам. Вся прочая жизнь – с министрами, президентами, авангардом и интеллигенцией – сделалась ничтожной и ничего не значащей. Что мне до них, думал он утром, глядя на стремительную походку девушки. Какая разница – авангард ли, не авангард! Что мне до них, если я держу в руках главное, самое главное, что только бывает. Вся эта суета вокруг нас – пусть бы и не было ее вовсе.
Однако жизнь вокруг них продолжала идти, и жизнь эта была уверена в том, что она значит многое.
IX
– Ты пойдешь со мной на день рождения к Маринке? – спрашивала Павла Лиза. Лиза привыкла к тому, что видит Павла редко, но следовало соблюдать приличия перед знакомыми.
– Я не пойду с тобой, – ответил Павел, – мне нужно быть в другом месте.
Лиза глядела с упреком – и ее глазами смотрела на Павла вся приличная жизнь, обиженные им будни. Эти будни глядели с досадой на распутного человека, который доставляет столько хлопот. Все равно ты никуда не денешься от нас, говорил этот взгляд, потому что мы имеем на тебя право и твоя жизнь принадлежит нам. Рано или поздно мы ее заберем, день за днем, а пока глядим на тебя с упреком. И Павел оглядывался по сторонам, но везде встречал тот же взгляд; так смотрел на него кривой тополь за окном, серый пиджак в шкафу, тарелка супа и газета с новостями. Вещи, люди, понятия – такие простые и уверенные в правоте – все теснее сжимают свой круг, и места для его собственной жизни не остается.
Простая жизнь, с неяркими эмоциями, с блеклыми страстями, жизнь скучная, но постоянная и надежная, обступает его со всех сторон и душит – уверенно и неумолимо. Как и все, что делается в размеренной и обыкновенной жизни, это происходило без излишней аффектации, просто благодаря незначительным ежедневным делам, но происходило неотвратимо. И Павел каждый день знал, что еще на один шаг обыкновенная жизнь продвинулась вперед, еще один день забрали от его, Павла, существа, еще что-то ему пришлось отдать для торжества простой и самодовольной жизни. Вот этот день, и потом день следующий, а за ними еще один – и обыкновенная жизнь, простая неяркая жизнь забирала их один за другим, и забирала без колебаний, но с чувством права и правоты. И, забирая их, обыкновенная жизнь смотрела на Павла с укоризной: неужели ты не понимаешь, что ты должен безропотно отдать все, для чего же ты цепляешься за свою особенность, для чего прячешь то, что тебе дорого, от нас – от неотвратимой силы вещей?
X
И девушка понимала это так же отчетливо, как Павел.
– Надо уехать, – говорила она, – ты не сможешь здесь. Не сможешь порвать. Мы должны уехать.
– Да, – говорил Павел, – мы должны уехать.
– Что ты знаешь про отца? – спросил Павел. Об отце он говорил редко, не с кем было говорить. – Ты сказала, Леонид не любил его.
– Гораздо больше я знаю про твою мать, – сказала девушка, – много лет назад я плакала из-за нее.
– Неужели?
– Я плакала ночи напролет, ревновала к ней. Я уверена (женщины чувствуют такие вещи), они любовники уже давно. Может быть, еще тогда, когда мы с Леонидом были женаты. Однажды я пришла домой и увидела у себя в спальне твою мать. Она сидела ко мне спиной, но увидела меня в зеркале – сидела перед моим зеркалом, красила губы. Мы не сказали друг другу ни слова, но как же мы друг друга ненавидели.
– Она ведь старше тебя. По всей логике, такой любитель жизни, как Леонид, должен был уйти от нее – к тебе. Все вывернуто наизнанку. Как странно, – говорил Павел, – пойми, мне и оскорбительно, и странно, и дико: все чувства приходят одновременно – я не знаю, какое чувство сильнее. Все так перемешано. Патология, фрейдистская история – она вовсе не для меня. И Леонид, который женился на моей матери, а до того был твоим мужем, – воплощение этой странности. Я ничего не понимаю.
– Значит, ты не понимаешь в пороке, – говорила девушка и целовала Павла. – Разве ты не знаешь, что Дон Жуану важно покорять сердца, подчинять волю, а чьи сердца и чью волю – все равно. Возраст ни при чем. И подумай: для Леонида важнее было унизить твоего отца. В этом и выражена его страсть к твоей матери.
– Зачем так?
– Леонид ненавидел твоего отца. Он его всегда ненавидел, – с непонятным Павлу чувством сказала девушка. – И оттого что я знала, что Леонид – человек мелкий и завистливый, я понимала, что твой отец – очень хороший. И потом, насколько я знаю, твой отец не принимал участия в их застольях.
– Нет.
– Они не прощали тех, кто к ним не ходит.
– Почему? – спросил Павел, хотя знал почему. Ему понравилось, как она ответила:
– Потому что уже тогда было понятно, что следующая революция будет культурной революцией. Они не просто пили – они уже тогда распределяли портфели в министерстве. Мне одно странно: кому понадобились такие неумные люди? Я ведь доподлинно знаю, что Леонид неумен.
VII
Они лежали рядом в постели, и девушка рассказывала. Она описывала то, что Павел прекрасно знал и без ее рассказа: пьяные вечера у Леонида, шутки и веселое застолье до утра. Она рассказывала – как всегда остроумно – про шумных молодых людей из творческого союза «Синие носы»; про поэтов, читавших бессмысленные стихи под общий смех; про питерских интеллектуалов, одетых в тельняшки, которые пили водку и считались новаторами; и про женщин, которые засыпали за столом. Они всегда притворялись кем-нибудь, говорила девушка, каждый из них играл какую-нибудь роль, и не было ни одного человека, ведущего себя просто. Я смотрела на них и думала: если, например, с этого питерского поэта снять тельняшку, то вместе с тельняшкой исчезнет и его дарование. Как же его опознать без тельняшки? Ведь отдельных от одежды мыслей ни у кого из них нет. Они писали стихи, похожие на стихи, и рисовали картины, похожие на картины. Одетые под кого-то молодые люди, загримированные под чужие страсти любовные истории – все было ненастоящее. Надо было бежать. Когда я ушла оттуда – у меня было чувство, что я уволилась из цирка: все остальное в жизни было менее шумно.
– Но ты сам знаешь эту жизнь, – сказала она.
– Пойми, – говорил Павел. Ему показалось, что сейчас он сумеет объяснить ей, что именно он чувствует, – пойми, пожалуйста. Это важно, чтобы ты услышала меня. Я оттого чувствую себя оскорбленным твоими мужьями и любовниками, что всю жизнь претендовал на особенную судьбу. У меня – так я думал – всегда в жизни будет такое, чего не было ни у кого, никогда. Я всегда знал, что у меня уникальная судьба. Нет, даже не так, надо сказать еще сильнее: я знал, что не могу смешать свою жизнь и судьбу с чем-то обычным, заурядным. И едва я оказывался в компании с общими интересами, взглядами и шутками – мне делалось не по себе. Никаких оснований для этого у меня не было, у нас простая семья и кровь не благородная. Странно мне, безродному полукровке, дикой смеси рязанской и еврейской кровей, считать себя избранником. Но так получилось, пойми, так получилось. Мы, Рихтеры, всегда были особенными – спроси, тебе скажет любой. Мы всегда и все делали не так, как прочие, всегда шли наперекор общим правилам. И то, какой у меня дед, и то, какой был отец, определило всю мою жизнь. Я был ребенком, слышишь меня, ребенком, и я уже знал, что избран. Я даже не знал на что избран, – но знал, что я избранник. Впрочем, – поправил себя Павел, – я знал на что. Не уверен был, как именно я это сделаю, но знал, что делать. Я чувствовал, что судьба моей семьи – спасти Россию. Не смейся, я знаю, это смешно звучит, но ты не смейся. Когда-то, очень давно, когда мой дед Соломон Рихтер был на войне, он написал такие стихи. – И Павел прочел строчки, которые были ему дороже всего: – «Что б ни были мы и где б, но только б землю России реки наших судеб, иссохшую, оросили». Тебе не нравится? – спросил он в темноте.
– Это хорошие строчки, – сказала девушка из темноты.
– Да, их не надо редактировать. Лучшие люди, каких я встречал, жили так, как написано в этих строчках. И я знал, что эти строчки написаны про меня тоже. Каждый из нас брал единственную судьбу и никакой иной не хотел. Это сделало нас такими странными и неудобными в общении. Мы – ненормальные, с идеей избранничества, может быть, пустой идеей, но кто знает наверное? Прости, я долго говорю, но мне важно сказать.
– Я сразу увидела в тебе и гордость, и желание стоять отдельно.
– Мы живем в такое необычайное время. Все здание России, огромной и страшной страны, большой, как целый мир, – вдруг треснуло и зашаталось, с него сорвало крышу. Я спрашиваю себя: значит ли это, что весь мир расшатался? Мы, живущие здесь, решили, что это случилось с одной лишь Россией, из-за того, что коммунизм плох. Но понимаешь, если дует столь сильный ветер, что шатается огромный дом, то нельзя поручиться и за все остальное в мире. И если я собирался отвечать за Россию, но получилось так – случайно получилось так, – что расшатался весь мир, значит, сегодня я отвечаю за весь мир. Я не отказываюсь. Но возможно это делать, только если я знаю, что я защищен с тыла, что у меня прикрыта спина. И это ты, это твоя любовь закрывает меня. Ты слышишь меня?
Павел обнимал девушку, и она говорила ему:
– Я знаю, ты один все сможешь. Я сразу поняла, что ты сильный.
– Подожди. Я не договорил. Мне нужно сказать до конца. Хотя бы в одном я должен быть уверен – в твоей любви. Я не могу быть уверен в том, что у меня хватит сил и что меня не свалит этот ветер. Я не могу быть уверен в том, что достанет ума и таланта. Но зачем-то мне дано это чувство избранничества – и я следую ему. Так хотя бы в одном пусть это избранничество меня не подведет – в женщине, которую обнимаю. Меня подведут руки и голова, предадут все вокруг, но хотя бы здесь, в самом близком, – пусть хотя бы здесь будет надежно. Я должен знать, что моя милая не разменена и не разменяла меня, что ее никто не целовал и она меня не предавала.
– Ты можешь не волноваться, – сказала она, – я человек надежный.
– Подожди, я не договорил. Я хотел рассказать тебе про столичных интеллектуалов, про тех, кого ты и сама видела много раз. Про тех, что нас окружали, что сидели у тебя в гостях. Ничего на свете я так не хотел, как интеллектуального братства. С детства я привык рассуждать о платоновской академии и Телемской обители. Потому я сблизился с диссидентами в те брежневские годы, что видел в них интеллект, бесстрашный перед оружием. А вслед за диссидентами пришли интеллигенты новой формации, воплощенная свобода. Вот где подлинный Телем! Сперва я ходил на их собрания и пьяные вечера и слушал их разговоры.
И потом мне стала оскорбительна профанация интеллекта. Я видел этих полупьяных, полуобразованных нахалов, которым кто-то сказал, что они художники и философы. И они страстно поверили! Оттого поверили, что никогда, даже в тяжелом долгом сне не видели настоящего художника. Оттого поверили, что их идеалом были такие же, как и они, прохвосты с Запада – пустые неумные люди. Я видел вечно булькающую мелкими страстями столичную художественную жизнь – эта жизнь была омерзительна. Я видел пустых людей с пустыми головами, которые старательно воспроизводили поведение творцов, как они их запомнили по популярным фильмам и брошюрам. Они драпировали себя в шарфы и шляпы, ругались матом, говорили слова, смысла которых не понимали, много пили и кривлялись. Тогда все поверили, что кривлянье есть путь к свободе. Помнишь эти теории карнавальной культуры и подобную чепуху? Говорили, что время нуждается в соленой омолаживающей шутке. Но время не менее того нуждалось в смысле и знании, а скоморохи таковых не производят. Я видел хвастливых, ничего не сделавших, ничего не умеющих людей, про которых распускали слухи, что они герои, только потому, что они в публичных местах пускали ветры, и вместо обычных штанов носили галифе, и лили краску на стены. Некоторые из них были милы, они ведь не все противные. Но они были пусты и дрянны, эти люди, и они инстинктивно ненавидели все настоящее. Для них не стало худших врагов, чем картины и книги, – по той простой причине, что в картинах и книгах сказано что-то, что может поставить под сомнение их права. Так некрасивая женщина убирает из дома зеркала, картины, фотографии – все, что скажет о ней правду. Они раздавали себе чины, говорили друг про друга: мы – классики авангарда. Вот этот, говорили они, патриарх соцарта, но я знал, что этот человек отпускает шутки про Брежнева только потому, что не умеет говорить всерьез. Говорили, вот это – классик концептуализма, но я знал, что этот дурачок рисует крестики и нолики потому, что не смог бы даже нарисовать кошку – если бы его заставили. Они бездарности, я знал и мыслями, и чувствами, и всем существом своим – они бездарны. И это видно, не может весь мир быть слеп. Так зачем же делать из них интеллектуалов? Но оказалось, что из них нарочно, планомерно делают интеллектуалов. И если поглядеть на это внимательно – становится понятно зачем. Когда-то из кучки инакомыслящих делали сумасшедших, это была генеральная линия партии – так делали, чтобы не дать расшатать государство. Но в дальнейшем поступили проще: из большой группы недоумков и неучей стали делать свободомыслящих – и это преследует ту же самую цель. Это тот же процесс, тот же самый. Добавь к этому то, что я говорил, про большой дом, с которого сорвало крышу, который треснул и покачнулся. Если подул сильный ветер, то подобное случилось во всем мире. И я стал ездить по миру и смотреть. И увидел то же самое; а раз так, если в Берлине пустозвон считается интеллектуалом, почему его двойник не сойдет за интеллектуала в России? Оказалось, что именно эта среда, пустая и хвастливая среда потребовалась миру для создания нового общества. Кому так надо? Кому-то понадобилось именно эту дрянную, порочную компанию объявить состоятельной интеллектуальной средой. Кому-то потребовалось сделать разум бессильным. И кажется, я знаю кому.
– Но разве не всегда, – спросила она, – авангард шутит, свергая классику?
– Разве авангард кого-то свергает сейчас? – спросил он. – Кого же? Дряхлых пейзажистов, лирических поэтов, что дохнут в малогабаритных квартирах, – разве что их и свергает авангард, больше свергать некого. Они победили – при чем же здесь авангард? Это уже основные части. Над всей Испанией безоблачное небо. Леонид Голенищев, твой муж…
– Он не муж мне.
– Леонид Голенищев заправляет культурой. Кого свергают они, апостолы соленой шутки и борцы с традицией? Они сами – традиция. И основательнее, чем их шутка, ничего в мире нет. Разве не смешно? Он не муж тебе – зато теперь он муж моей матери, теперь он спит в постели моего отца. Разве не смешно? Давай же смеяться.
– Ты слишком велик, – говорила она, – чтобы ссориться с ними. Не обращай внимания на этих людей. Не замечай их. Что тебе эти «синие носы»?
– Мне отчего-то запомнилась выставка «Давай!». Все время возвращаюсь мыслями к этой выставке, хотя прочие ничем от нее не отличались. Ты помнишь эту выставку: смешные, неумные, немолодые люди кривляются, пляшут и развлекают западную публику. Казалось бы, уже надоело европейцам смотреть русское искусство, но все-таки эту выставку посмотрели. Что именно давай, кому давай? Неважно. Устроили эту выставку в то время, когда давать русским было уже нечего – у России все и так забрали. Уже не надо агитировать за развал культуры – от культуры не осталось ничего. Уже не надо подбадривать хапуг и кричать «давай!» спекулянтам – из страны утащили все. И однако сызнова прокричали этот бодрящий призыв – и высыпали на сцену немолодые «синие носы», пожилые юноши в тельняшках. И опять стали пить водку, материться и кукарекать. Ничего, наберем по зернышку и последнее отдадим; так и с любовью – всегда найдется, что еще отдать, даже если все уже отдали. Давай! Мало ли, что все растащили, – найдется какой-нибудь завалящий заводишко, так и его приберем. Найдется и еще пара «синих носов» – и споют, и спляшут! И Запад покосился благосклонно на «синие носы»: славно в России дикари отплясывают. Именно эта выставка стала для меня последней. Я решил никогда и никуда не ходить, ничего не смотреть. Пусть они будут сами по себе. Ты слушаешь меня?
– Да, – сказала девушка. – Но зачем ты так сказал про любовь? Я не отдавала своей любви, я не говорила: давай!
– И я думал, они до меня никогда не доберутся. Я не подавал никому из них руки, не здоровался с ними, я их презирал. Приходил в эту мастерскую, закрывал дверь – и оставался с Брейгелем и Гойей, с Эль Греко и Рембрандтом, а шутники и скоморохи – они словно и не существовали больше. С их ужимками, прибауточками я прощался, закрывая дверь. Я становился к мольберту, я каждый день писал – и между мной и ними вставали мои холсты, – Павел говорил и чувствовал облегчение, освобождаясь от давившего груза ненависти. Давно уже, нет, не давно, но вообще никогда не говорил он с такой свободой: не нужно было притворяться, не нужно было подбирать слова. – Для того чтобы рассказать тебе о своей ревности, мне надо объяснить другое чувство, то чувство, что противно ревности. Я уже говорил, ревновать можно к равному. Я не ревную тебя к другим, к тем мужчинам. И этих весельчаков я к искусству не ревную. Я ненавижу их. Всегда их ненавидел. За то ненавижу, что они променяли искусство на прогресс, первородство на чечевичную похлебку. Ревную ли Голенищева к матери? Ненавижу. Ненавижу за кривую улыбочку, выпускаемую сквозь черную бороду, за смерть своего отца, за то, что этот улыбчивый самодовольный мерзавец вошел в мой дом. Они победили – везде. Но не до конца, думал я, не до конца. Им меня не достать. Но вот они залезли ко мне в постель.
Девушка давно уже плакала. Она лежала ничком и тяжело плакала, поднимала голову от подушки, вскрикивала и плакала опять. Павел обнимал ее, говорил, чтобы она успокоилась, но она плакала и плакала.
– Прогони меня, – твердила она, – прогони.
VIII
Стояла холодная тихая ночь, и ее плач слышен был во всем доме – сквозь халтурные стены хрущевской постройки. Успокойся, говорил Павел, но сам думал о другом. Что надо сделать, думал он, что выбрать? Терпеть все это, то, что в принципе нестерпимо, – или идти напролом и бросить то последнее, что здесь удерживает? Я не могу больше выносить это фальшивое бытие. Быть так – значит не быть вовсе. Если вся система ценностей, принятая в этом обществе, фальшива, если все институты, все правила – ложь, если все то, что они называют культурой, – вульгарная шутка, то для чего это нужно выносить? Если те, кого называют интеллигентами, – трусы и лакеи, если у власти – коррумпированные прохвосты, то так и следует сказать: они лакеи и прохвосты. Если министр культуры – мздоимец, а его заместитель – вор, то так и надо сказать и положить конец этому спектаклю. Если президент и его министры – жулье, то отчего же не сказать именно так? И плевать, что будет. Они думают, что правила этой игры нельзя нарушить – и думают так только оттого, что каждому игроку есть что терять: кому дом, кому семью, кому славу. И всегда найдется этот теплый уютный уголок, который хочется защитить и ради этого согласиться с тем, что с дома сорвало крышу. И мы ходим на приемы, жмем руки, шутим и жрем то, что нам дают. Глядишь, и жизнь пройдет, и не придется ничего менять, а там оно, может, и само устроится. Но мне нечего терять, и этого уютного уголка у меня нет. В моей теплой постели переночевало уже столько посторонних мужчин, что постель больше не греет. Так почему же ты медлишь?
Легко думать смелые мысли, когда та, которую любишь, лежит рядом. Девушка перестала плакать и уснула, и Павел уснул, согретый ее теплом. Утром девушка уходила от него, и Павел смотрел ей вслед, и в эту минуту ему не хотелось ничего иного, но только вернуть ее, прижать к себе, гладить худую ключицу. Она повернулась посмотреть на него, и свет не погашенного с ночи фонаря выхватил из утренней темноты ее прекрасное лицо. Я не отдам ее, думал Павел, я ни за что ее не отдам. Вся прочая жизнь – с министрами, президентами, авангардом и интеллигенцией – сделалась ничтожной и ничего не значащей. Что мне до них, думал он утром, глядя на стремительную походку девушки. Какая разница – авангард ли, не авангард! Что мне до них, если я держу в руках главное, самое главное, что только бывает. Вся эта суета вокруг нас – пусть бы и не было ее вовсе.
Однако жизнь вокруг них продолжала идти, и жизнь эта была уверена в том, что она значит многое.
IX
– Ты пойдешь со мной на день рождения к Маринке? – спрашивала Павла Лиза. Лиза привыкла к тому, что видит Павла редко, но следовало соблюдать приличия перед знакомыми.
– Я не пойду с тобой, – ответил Павел, – мне нужно быть в другом месте.
Лиза глядела с упреком – и ее глазами смотрела на Павла вся приличная жизнь, обиженные им будни. Эти будни глядели с досадой на распутного человека, который доставляет столько хлопот. Все равно ты никуда не денешься от нас, говорил этот взгляд, потому что мы имеем на тебя право и твоя жизнь принадлежит нам. Рано или поздно мы ее заберем, день за днем, а пока глядим на тебя с упреком. И Павел оглядывался по сторонам, но везде встречал тот же взгляд; так смотрел на него кривой тополь за окном, серый пиджак в шкафу, тарелка супа и газета с новостями. Вещи, люди, понятия – такие простые и уверенные в правоте – все теснее сжимают свой круг, и места для его собственной жизни не остается.
Простая жизнь, с неяркими эмоциями, с блеклыми страстями, жизнь скучная, но постоянная и надежная, обступает его со всех сторон и душит – уверенно и неумолимо. Как и все, что делается в размеренной и обыкновенной жизни, это происходило без излишней аффектации, просто благодаря незначительным ежедневным делам, но происходило неотвратимо. И Павел каждый день знал, что еще на один шаг обыкновенная жизнь продвинулась вперед, еще один день забрали от его, Павла, существа, еще что-то ему пришлось отдать для торжества простой и самодовольной жизни. Вот этот день, и потом день следующий, а за ними еще один – и обыкновенная жизнь, простая неяркая жизнь забирала их один за другим, и забирала без колебаний, но с чувством права и правоты. И, забирая их, обыкновенная жизнь смотрела на Павла с укоризной: неужели ты не понимаешь, что ты должен безропотно отдать все, для чего же ты цепляешься за свою особенность, для чего прячешь то, что тебе дорого, от нас – от неотвратимой силы вещей?
X
И девушка понимала это так же отчетливо, как Павел.
– Надо уехать, – говорила она, – ты не сможешь здесь. Не сможешь порвать. Мы должны уехать.
– Да, – говорил Павел, – мы должны уехать.