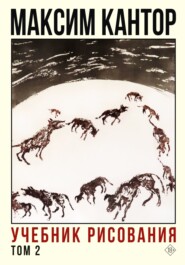По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Учебник рисования. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А деньги кто платит?
– Он и платит.
– Где ж он деньги берет? Вдруг – ворюга?
– Ты сошел с ума. Совесть свободного искусства?
– Может, он прохвост.
– Надо цены заранее обсудить. Чек получишь – а там на кальсоны не хватает.
– Есть у меня кальсоны.
– Я говорил, Гриша сколотит состояние.
– Без галереи – нельзя. Надо участвовать в смотрах мирового искусства.
– Надо почувствовать дух времени.
– А гарантии?
– Какие гарантии?
– Вдруг там обманут?
– Обманут здесь. Мне за картины здесь сроду не платили!
– Они еще отдадут нам долги, отдадут!
– Они еще вспомнят!
– Надо доказать, что мы правы!
Так говорили художники. А женщины их говорили так:
– Девочки, доллар падает. Рита, скажи Эдику, пусть берет только в фунтах.
– Ах, Клара, хоть задаром, но в музей.
– Я один раз в жизни увидеть хочу, как за картину платят деньги.
– Фергнюген, атташе немецкий, прислал Грише ящик баварского пива. Я удивилась, а Гриша сказал, что он ему рисунок подарил.
– Пусть дарит сразу два, а ты проси шубу.
– Эдику не надо ничего, он любую вещь отдает задаром. Говорит: мне спокойнее, что картина сохранится, при обыске не порвут.
– А Гриша говорит: всякая работа должна что-то стоить.
– Это оттого, что вас не обыскивали ни разу, не знаете, что с картинами бывает.
– Как это не обыскивали? Мне гэбэшник супницу кузнецовскую раздавил – от прабабки наследство. Полез, гад, на верхнюю полку книжки трясти и коленом на буфет встал, аккурат в супницу. Со мной чуть инфаркт не сделался, я думала, я его задушу, гада.
– Все-таки не картина.
– Да она красивей будет иной картины. И вынесла, страдалица, сколько. Другие люди столько не вытерпели, сколько моя супница. В Харбин плавала, в Париже жила, перед войной в Ригу переехала – и вот гэбэшник ее натрое разломал. Коленом своим жирным.
– А как на выставках холсты бритвами резали? Это тебе не супница.
– Помните, помните, как гэбэшники холсты резали?
– Если не шубами, так золотом, девочки, берите. Золото в доме не помешает.
Струев с Первачевым стояли поодаль от остальных и говорили друг с другом негромко, короткими фразами.
– Они спрятались и ждут, – сказал Первачев, – как тогда, в «оттепель».
– Зачем им прятаться? Просто наблюдают, сидя на даче.
– Власть так просто не отдают.
– Ищут победителя, чтобы его сделать своим.
– Думаете?
– Знаю.
– Думаете, мы – победители?
– Поглядите вокруг, Захар.
Лидер нового поколения и лидер так называемых шестидесятников рука об руку шли по залу и оглядывали зал, а люди в толпе поворачивались, чтобы рассмотреть их лица.
И еще показали в толпе человека. Видите, видите его, говорили многие, это Виктор Маркин, диссидент. Никто толком не знал, что сделал Маркин, вроде бы хранил какие-то фонды, кажется, переписывался с Солженицыным, кажется, его вызывали на Лубянку, наверное, и сидел когда-то. Старый, тощий, с выпуклыми прозрачными глазами и седой бородой, прокуренной и порыжевшей у рта от никотина, Маркин брел через толпу, шаркая ногами, задрав голову вверх, привычным жестом заложив руки за спину, как на лагерном разводе. И подле него, шаг в шаг с ним, но не шаркая ногами, а плавно и свободно двигаясь, шла стриженая девушка с большими глазами, с гордой шеей. Девушка шла подле него и не стеснялась того, что идет со стариком, а гордилась им. Как принято было у московских девушек тех лет, одета она была в бурый лыжный свитер, застиранные штаны, и это лишь подчеркивало ее тонкую красоту.
И еще говорили: вон там, там, где картина Струева, посмотрите, кто пришел. Кто там, кто же там такой? Но ничего было не разглядеть за спинами и затылками. Солженицын? Неужели Солженицын? Ну, конечно, он! Нет, не он, но он тоже придет, подождите.
Наконец-то это произошло, наконец совершилось то, чего все эти люди ждали годами, сегодня вдруг случилось это – рухнула стена, отгораживающая их от мира. Вдруг сделалось возможно то, о чем они мечтали и говорили долгие десятилетия, за что их отцы и старшие товарищи рисковали свободой.
Сегодня собрались те, кого принято было считать цветом интеллигенции, совестью России. Все они, насидевшиеся по углам, наговорившиеся по кухням, настрадавшиеся в очередях, измученные молчанием и трусостью, затаившие в себе обиды, все сегодня были здесь, чтобы разделить торжество художников-нонконформистов. Было время, в начале века, когда именно искусство стало авангардом истории. С тех пор всех смельчаков и новаторов называли авангардистами, и опальные художники сами тоже называли себя так. Бюрократы и партийные чиновники произносили слово «авангард» боязливо и презрительно. «Ну эти, как их, авангардисты», – так говорили чиновники. Но сегодня стало ясно, что победил именно авангард.
III
Струев – его теперь окрестили отцом второго авангарда – громко просил сказать речь. Он крикнул через головы: «Мы думали, этот день наступит в пятьдесят шестом! Ждали тридцать лет! Хватит!»
Вперед вышел старый профессор Соломон Рихтер. Его помнили еще по временам хрущевской «оттепели», по его книге о Пикассо с предисловием Эренбурга. Он сказал так: «Вы все запомните этот день, и московская интеллигенция его запомнит, и русское искусство запомнит, и западный мир его запомнит тоже. Начинается новый отсчет времени. Недостаточно прожить сегодняшний день, требуется понять ему цену. Часто происходящее с нами лишь притворяется современностью. Подчас лишь кажется, что часы идут, а на самом деле они давно крутят время в другую сторону или стоят, и живешь в далеком прошлом, где-то на обочине времени, в канаве истории. Мы с вами хорошо знаем, как бывает, когда время стоит, не правда ли? Но бывают такие дни, которые открывают эпоху. День, когда двое представились друг другу в парижском кафе и один из них назвался Аполлинером, а другой Пикассо, изменил мир. Сегодня день такой же. Мы оставили позади себя безмерно растянувшиеся минуты фальши и пустоты. Пять минут назад мы вошли в пространство новой истории. Сверьте свои часы, чтобы не отстать». Он еще говорил, но все уже хлопали, смеялись и открывали шампанское. Женщина, стоявшая за спиной у Павла, спросила кого-то: «У тебя есть стакан?» Сквозь спины и локти было не видно, но слышалось, как булькает вино, как звякает стекло.
Павел подумал: это и правда исторический день, это и есть настоящий праздник. Ах, напрасно отказался отец пойти сюда. Он бы тоже гордился этим днем. Он будет жалеть потом, ведь подобного дня уже не вернуть. Кто-то крикнул «Ура!», но это прозвучало фальшиво. Праздник был настоящий, не похожий на Первое мая или Седьмое ноября, – и не нужно было его портить, делать таким, как прочие праздники. И вино казалось ненужным – сам воздух пьянил. И когда чернобородый Леонид, приподнявшись над толпой, крикнул чистым и звонким голосом: «К черту шампанское, об пол стаканы!» – это не показалось лишним. Да, правильно, так и надо было сделать в этот день. Смеясь, стали бить посуду и ходили, хрустя каблуками по стеклу. Носатый юноша сказал громко и весело: «Не стаканы, часы бейте! Время теперь – другое!» И тут же пара молодых людей сорвала с рук часы и швырнула об пол. А одна из жен художников, та, что требовала шубы и жалела супницы, под общий хохот кричала: «Бейте, небось, не швейцарские, бейте, гости дорогие, ремонтировать дороже!» И тут же к ней подлетел кто-то элегантный и гибкий, с подкрученными усами, с пробором. И тут же прошелестело в толпе, что это и есть немецкий атташе Дитер Фергнюген, ценитель искусств. А тот уже вынимал из футляра и с поклоном вручал часы – вот так уж совпало: и швейцарские как раз, и с золотым браслетом. И несся над залом женский ликующий смех, и что-то продолжал говорить твердо и с пафосом старый Рихтер.
– Он и платит.
– Где ж он деньги берет? Вдруг – ворюга?
– Ты сошел с ума. Совесть свободного искусства?
– Может, он прохвост.
– Надо цены заранее обсудить. Чек получишь – а там на кальсоны не хватает.
– Есть у меня кальсоны.
– Я говорил, Гриша сколотит состояние.
– Без галереи – нельзя. Надо участвовать в смотрах мирового искусства.
– Надо почувствовать дух времени.
– А гарантии?
– Какие гарантии?
– Вдруг там обманут?
– Обманут здесь. Мне за картины здесь сроду не платили!
– Они еще отдадут нам долги, отдадут!
– Они еще вспомнят!
– Надо доказать, что мы правы!
Так говорили художники. А женщины их говорили так:
– Девочки, доллар падает. Рита, скажи Эдику, пусть берет только в фунтах.
– Ах, Клара, хоть задаром, но в музей.
– Я один раз в жизни увидеть хочу, как за картину платят деньги.
– Фергнюген, атташе немецкий, прислал Грише ящик баварского пива. Я удивилась, а Гриша сказал, что он ему рисунок подарил.
– Пусть дарит сразу два, а ты проси шубу.
– Эдику не надо ничего, он любую вещь отдает задаром. Говорит: мне спокойнее, что картина сохранится, при обыске не порвут.
– А Гриша говорит: всякая работа должна что-то стоить.
– Это оттого, что вас не обыскивали ни разу, не знаете, что с картинами бывает.
– Как это не обыскивали? Мне гэбэшник супницу кузнецовскую раздавил – от прабабки наследство. Полез, гад, на верхнюю полку книжки трясти и коленом на буфет встал, аккурат в супницу. Со мной чуть инфаркт не сделался, я думала, я его задушу, гада.
– Все-таки не картина.
– Да она красивей будет иной картины. И вынесла, страдалица, сколько. Другие люди столько не вытерпели, сколько моя супница. В Харбин плавала, в Париже жила, перед войной в Ригу переехала – и вот гэбэшник ее натрое разломал. Коленом своим жирным.
– А как на выставках холсты бритвами резали? Это тебе не супница.
– Помните, помните, как гэбэшники холсты резали?
– Если не шубами, так золотом, девочки, берите. Золото в доме не помешает.
Струев с Первачевым стояли поодаль от остальных и говорили друг с другом негромко, короткими фразами.
– Они спрятались и ждут, – сказал Первачев, – как тогда, в «оттепель».
– Зачем им прятаться? Просто наблюдают, сидя на даче.
– Власть так просто не отдают.
– Ищут победителя, чтобы его сделать своим.
– Думаете?
– Знаю.
– Думаете, мы – победители?
– Поглядите вокруг, Захар.
Лидер нового поколения и лидер так называемых шестидесятников рука об руку шли по залу и оглядывали зал, а люди в толпе поворачивались, чтобы рассмотреть их лица.
И еще показали в толпе человека. Видите, видите его, говорили многие, это Виктор Маркин, диссидент. Никто толком не знал, что сделал Маркин, вроде бы хранил какие-то фонды, кажется, переписывался с Солженицыным, кажется, его вызывали на Лубянку, наверное, и сидел когда-то. Старый, тощий, с выпуклыми прозрачными глазами и седой бородой, прокуренной и порыжевшей у рта от никотина, Маркин брел через толпу, шаркая ногами, задрав голову вверх, привычным жестом заложив руки за спину, как на лагерном разводе. И подле него, шаг в шаг с ним, но не шаркая ногами, а плавно и свободно двигаясь, шла стриженая девушка с большими глазами, с гордой шеей. Девушка шла подле него и не стеснялась того, что идет со стариком, а гордилась им. Как принято было у московских девушек тех лет, одета она была в бурый лыжный свитер, застиранные штаны, и это лишь подчеркивало ее тонкую красоту.
И еще говорили: вон там, там, где картина Струева, посмотрите, кто пришел. Кто там, кто же там такой? Но ничего было не разглядеть за спинами и затылками. Солженицын? Неужели Солженицын? Ну, конечно, он! Нет, не он, но он тоже придет, подождите.
Наконец-то это произошло, наконец совершилось то, чего все эти люди ждали годами, сегодня вдруг случилось это – рухнула стена, отгораживающая их от мира. Вдруг сделалось возможно то, о чем они мечтали и говорили долгие десятилетия, за что их отцы и старшие товарищи рисковали свободой.
Сегодня собрались те, кого принято было считать цветом интеллигенции, совестью России. Все они, насидевшиеся по углам, наговорившиеся по кухням, настрадавшиеся в очередях, измученные молчанием и трусостью, затаившие в себе обиды, все сегодня были здесь, чтобы разделить торжество художников-нонконформистов. Было время, в начале века, когда именно искусство стало авангардом истории. С тех пор всех смельчаков и новаторов называли авангардистами, и опальные художники сами тоже называли себя так. Бюрократы и партийные чиновники произносили слово «авангард» боязливо и презрительно. «Ну эти, как их, авангардисты», – так говорили чиновники. Но сегодня стало ясно, что победил именно авангард.
III
Струев – его теперь окрестили отцом второго авангарда – громко просил сказать речь. Он крикнул через головы: «Мы думали, этот день наступит в пятьдесят шестом! Ждали тридцать лет! Хватит!»
Вперед вышел старый профессор Соломон Рихтер. Его помнили еще по временам хрущевской «оттепели», по его книге о Пикассо с предисловием Эренбурга. Он сказал так: «Вы все запомните этот день, и московская интеллигенция его запомнит, и русское искусство запомнит, и западный мир его запомнит тоже. Начинается новый отсчет времени. Недостаточно прожить сегодняшний день, требуется понять ему цену. Часто происходящее с нами лишь притворяется современностью. Подчас лишь кажется, что часы идут, а на самом деле они давно крутят время в другую сторону или стоят, и живешь в далеком прошлом, где-то на обочине времени, в канаве истории. Мы с вами хорошо знаем, как бывает, когда время стоит, не правда ли? Но бывают такие дни, которые открывают эпоху. День, когда двое представились друг другу в парижском кафе и один из них назвался Аполлинером, а другой Пикассо, изменил мир. Сегодня день такой же. Мы оставили позади себя безмерно растянувшиеся минуты фальши и пустоты. Пять минут назад мы вошли в пространство новой истории. Сверьте свои часы, чтобы не отстать». Он еще говорил, но все уже хлопали, смеялись и открывали шампанское. Женщина, стоявшая за спиной у Павла, спросила кого-то: «У тебя есть стакан?» Сквозь спины и локти было не видно, но слышалось, как булькает вино, как звякает стекло.
Павел подумал: это и правда исторический день, это и есть настоящий праздник. Ах, напрасно отказался отец пойти сюда. Он бы тоже гордился этим днем. Он будет жалеть потом, ведь подобного дня уже не вернуть. Кто-то крикнул «Ура!», но это прозвучало фальшиво. Праздник был настоящий, не похожий на Первое мая или Седьмое ноября, – и не нужно было его портить, делать таким, как прочие праздники. И вино казалось ненужным – сам воздух пьянил. И когда чернобородый Леонид, приподнявшись над толпой, крикнул чистым и звонким голосом: «К черту шампанское, об пол стаканы!» – это не показалось лишним. Да, правильно, так и надо было сделать в этот день. Смеясь, стали бить посуду и ходили, хрустя каблуками по стеклу. Носатый юноша сказал громко и весело: «Не стаканы, часы бейте! Время теперь – другое!» И тут же пара молодых людей сорвала с рук часы и швырнула об пол. А одна из жен художников, та, что требовала шубы и жалела супницы, под общий хохот кричала: «Бейте, небось, не швейцарские, бейте, гости дорогие, ремонтировать дороже!» И тут же к ней подлетел кто-то элегантный и гибкий, с подкрученными усами, с пробором. И тут же прошелестело в толпе, что это и есть немецкий атташе Дитер Фергнюген, ценитель искусств. А тот уже вынимал из футляра и с поклоном вручал часы – вот так уж совпало: и швейцарские как раз, и с золотым браслетом. И несся над залом женский ликующий смех, и что-то продолжал говорить твердо и с пафосом старый Рихтер.