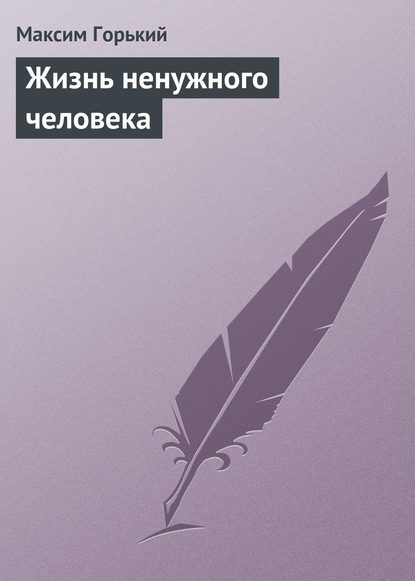По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь ненужного человека
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Конечно, – вы человек одинокий. Но когда имеешь семью, то есть – женщину, которая требует того, сего, пятого, десятого, то – пойдёшь куда и не хочешь, – пойдёшь! Нужда в существовании заставляет человека даже по канату ходить… Когда я это вижу, то у меня голова кружится и под ложечкой боль чувствую, – но думаю про себя: «А ведь если будет нужно для существования, то и ты, Иван Веков, на канат полезешь»…
Он метался по комнате, задевая за стол, стулья, бормотал и надувал щёки, его маленькое лицо с розовыми щеками становилось похоже на пузырь, незаметные глаза исчезали, красненький нос прятался меж буграми щёк. Скорбящий голос, понурая фигура, безнадёжные слова его – всё это вызывало у Климкова досаду, он недружелюбно заметил:
– Скоро всё устроится по-другому, – так что теперь жаловаться не к чему…
– Но ведь не хотят у нас этого! – воскликнул Веков, взмахнув руками и останавливаясь против Евсея. – Понимаете?
Евсей, обеспокоенный, повернулся на стуле, желая возразить что-то, но не мог найти слов и стал, сопя носом, завязывать ботинки.
– Саша кричит – бейте их! Вяхирев револьверы показывает, – буду, говорит, стрелять прямо в глаза, Красавин подбирает шайку каких-то людей и тоже всё говорит о ножах, чтобы резать и прочее. Чашин собирается какого-то студента убить за то, что студент у него любовницу увёл. Явился ещё какой-то новый, кривой, и всё улыбается, а зубы у него впереди выбиты – очень страшное лицо. Совершенно дико всё это… Он понизил голос до шёпота и таинственно сказал:
– Всякий должен защищать своё существование в жизни – это понятно, – однако желательно, чтобы без убийства. Ведь если мы будем резать, то и нас будут резать…
Веков вздрогнул, склонил голову к окну, прислушался и, подняв руку кверху, побледнел.
– Что это? – спросил Евсей.
Гулкий шум мягкими неровными ударами толкался в стёкла, как бы желая выдавить их и налиться в комнату. Евсей поднялся на ноги, вопросительно и тревожно глядя на Векова, а тот издали протянул руку к окну, должно быть, опасаясь, чтобы его не увидали с улицы, открыл форточку, отскочил в сторону, и в ту же секунду широкий поток звуков ворвался, окружил шпионов, толкнулся в дверь, отворил её и поплыл по коридору, властный, ликующий, могучий.
Но Веков выглядывал из форточки и поминутно, быстро ворочая шеей, говорил торопясь и обрывисто:
– Народ идёт, – красные флаги, – множество народу, – бессчётно, – разного звания… Офицер даже… и поп Успенский… без шапок… Мельников… Мельников наш, – смотрите-ка!
Евсей подскочил к форточке, взглянул вниз, там текла, заполняя всю улицу, густая толпа. Над головами людей реяли флаги, подобно красным птицам, и, оглушённый кипящим шумом, Климков видел в первых рядах толпы бородатую фигуру Мельникова, – он держал обеими руками короткое древко, взмахивал им, и порою материя флага окутывала ему голову красной чалмой. Из-под шапки у него выбились тёмные пряди волос, они падали на лоб и щёки, мешались с бородой, и мохнатый, как зверь, шпион, должно быть, кричал – рот его был широко открыт.
– Куда они идут? – пробормотал Климков, обернувшись к товарищу.
– Радуются! – сказал тот, упираясь лбом в стекло окна.
Оба замолчали, пропуская мимо своих глаз пёстрый поток людей, ловя чуткими ушами в глубоком море шума громкие всплески отдельных возгласов.
– Какая сила, а? Жили люди каждый отдельно – вдруг двинулись все вместе, – неестественное событие! А Мельников, – видели вы?
– Он всегда стоял за народ! – объяснил Евсей поучающим голосом и отошёл от окна, чувствуя себя бодро и ново.
– Теперь – всё пойдёт хорошо, – никто не хочет, чтобы им командовали. Всякий желает жить, как ему надобно, – тихо, мирно, в хороших порядках! – солидно говорил он, рассматривая в зеркале своё острое лицо. Желая усилить приятное чувство довольства собой, он подумал – чем бы поднять себя повыше в глазах товарища, И таинственно сообщил:
– А знаете – Маклаков бежал в Америку…
– Вот как! – безучастно отозвался шпион. – Что же, он холостой человек…
«Зачем я сказал?» – упрекнул себя Евсей, потом с лёгкой тревогой и неприязнью попросил Векова: – Вы об этом не говорите никому, пожалуйста!
– О Маклакове? Хорошо. Мне надо идти в охрану. Вы не пойдёте?
– Выйдем вместе…
На улице Веков вполголоса, с унылым раздражением, заметил:
– Глуп народ всё-таки! Вместо того, чтобы ходить с флагами и песнями, он должен бы, уж если почувствовал себя в силе, требовать у начальства немедленного прекращения всякой политики. Чтобы всех обратить в людей, и нас и революционеров… выдать кому следует – и нашим и ихним – награды и строго заявить – политика больше не допускается!..
Он вдруг исчез, свернув за угол.
По улице возбуждённо метался народ, все говорили громко, у всех лица радостно улыбались, хмурый осенний вечер напоминал собою светлый день пасхи.
То в конце улицы, занавешенной сумраком, то где-то близко люди запевали песню и гасили её громкими криками:
– Да здравствует свобода!
И всюду раздавался смех, звучали ласковые голоса.
Это нравилось Климкову, он вежливо уступал дорогу встречным, смотрел на них одобрительно, с улыбкой удовольствия.
Из-за угла выскочили, тихо посмеиваясь, двое людей, один из них толкнул Евсея, но тотчас же сорвал с головы шапку и воскликнул:
– Ах, извините, пожалуйста!
– Ничего… – любезно ответил Климков.
Перед Евсеем стоял Грохотов. Чисто выбритый и точно смазанный маслом, он весь сиял улыбками, и его сладкие глазки играли, бегая по сторонам.
– Ну, Евсей, вот уж попал я в кашу. Если бы не мой талант… Ты знаком? Это Пантелеев, тоже наш…
Грохотов задыхался, говорил быстрым шёпотом и торопливо отирал пот с лица.
– Понимаешь, – иду бульваром, вижу – толпа, в середине оратор, ну, я подошёл, стою, слушаю. Говорит он этак, знаешь, совсем без стеснения, я на всякий случай и спросил соседа: кто это такой умница? Знакомое, говорю, лицо – не знаете вы фамилии его? Фамилия – Зимин. И только это он назвал фамилию, вдруг какие-то двое цап меня под руки. «Господа, – шпион!» Я слова сказать не успел. Вижу себя в центре, и этакая тишина вокруг, а глаза у всех – как шилья… Пропал, думаю…
– Зимин? – смущённо спросил Евсей, оглянувшись назад, и пошёл быстрее.
Грохотов вскинул голову к небу, перекрестился и продолжал ещё более торопливо:
– Но господь надоумил меня, сразу я опомнился и громко так кричу: «Господа, полная ошибка! Я не шпион, а известный подражатель знаменитых людей и звуков… Не угодно ли проверить на деле?» Эти, которые схватили меня, кричат: «Врёт, мы его знаем!» Но я уже сделал лицо, как у обер-полицеймейстера, и его голосом кричу: «Кто ра-азрешил собрание толпы?» И слышу – господи! – смеются уже!.. Ну, тут я как начал изображать всё, что умею – губернатора, пилу, поросёнка, муху, – хохочут! Даже те, которые держат меня, засмеялись, окаянные, выпустили… И начали мне аплодировать, честное слово, – вот Пантелеев удостоверит, он всё видел!..
– Правильно! – сиплым голосом сказал Пантелеев, коренастый человек в очках и в поддёвке.
– Да, брат, аплодировали! – с восторгом воскликнул Грохотов, застучал кулаком по своей узкой груди и закашлялся. – Теперь кончено, – я себя знаю! Артист, вот он – я! Могу сказать – обязан своему искусству жизнью, – а что? Очень просто! Народ шутить не любит…
– Народ стал доверчив, – заметил Пантелеев, раздумчиво и странно, – и очень смягчился сердцем…
– Это верно! Что делают, а? – тихонько воскликнул Грохотов и уже шёпотом продолжал: – Всё открылось, везде на первом плане поднадзорные, старые знакомые наши… Что такое, а?
– Столяру фамилия Зимин? – спросил Евсей ещё раз.
– Зимин Матвей, по делу о пропаганде на мебельной фабрике Кнопа, – ответил Пантелеев внушительно и строго.
– Он должен быть в тюрьме! – сказал Евсей недовольно.
Грохотов весело свистнул.