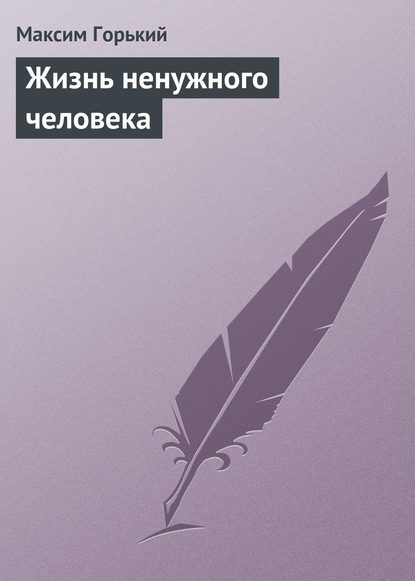По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь ненужного человека
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ему с Нового года ещё прибавили шестьсот рублей…
Иногда вместо Филиппа с шпионами беседовал красивый, богато одетый господин Леонтьев. Он не сидел, а расхаживал по комнате, держа руки в карманах, вежливо сторонился от всех, его гладкое лицо было холодно и брезгливо, тонкие губы двигались неохотно, он всегда хмурился, и глаз его не было видно. Приезжал из Петербурга господин Ясногурский, широкоплечий, низенький, лысый, с орденом на груди. У него был огромный рот, дряблое лицо, тяжёлые глаза, точно два маленькие камня, и длинные руки. Говоря, он громко чмокал губами, щедро сыпал крепкие похабные ругательства, и Евсею особенно глубоко запомнилась одна его фраза:
– Они говорят народу: ты можешь устроить для себя другую, лёгкую жизнь. Врут они, дети мои! Жизнь строит государь император и святая наша церковь, а люди ничего не могут изменить, ничего!..
Все говорили об одном – нужно служить усерднее, нужно быть ловчее, потому что революционеры становятся всё более сильны. Иногда рассказывали о царях, о том, как они умны и добры, как боятся и ненавидят их иностранцы за то, что русские цари всегда освобождали разные народы из иностранного плена – освободили болгар и сербов из-под власти турецкого султана, хивинцев, бухар и туркмен из-под руки персидского шаха, маньчжуров от китайского царя. А немцы, англичане и японцы недовольны этим, они хотели бы забрать освобождённые Россией народы в свою власть, но знают, что царь не позволит им сделать это, – вот почему они ненавидят царя и, желая ему всякого зла, стараются устроить в России революцию.
Евсей, слушая эти речи, ждал, когда будут говорить о русском народе и объяснят: почему все люди неприятны и жестоки, любят мучить друг друга, живут такой беспокойной, неуютной жизнью, и отчего такая нищета, страх везде и всюду злые стоны? Но об этом никто не говорил.
После одной из бесед Веков сказал Евсею, идя с ним по улице:
– Значит – входят они в силу, слышал ты?.. Невозможно понять – что такое? Тайные люди, живут негласно – и вдруг начинают всё тревожить, – так сказать – всю жизнь раскачивают. Трудно сообразить – откуда же сила?
Мельников, теперь ещё более угрюмый и молчаливый, похудевший и растрёпанный, однажды ударил кулаком по колену и зарычал:
– Желаю знать – где правда?
– Что такое? – сердито спросил Маклаков.
– Что? Вот что – я так понимаю – одно начальство ослабело, наше начальство. Теперь поднимается на народ другое. Больше ничего!..
– И вышел вздор! – сказал Маклаков, смеясь. Мельников посмотрел на него и вздохнул.
– Не ври, Тимофей Васильевич… Врёшь ты… Умный, а врёшь.
Речи о революционерах западали в голову Климкова, создавая там тонкий слой новой почвы для роста мыслей; эти мысли беспокоили, куда-то тихо увлекали…
XIV
Идя в гости к Маше, он вдруг сообразил: «Познакомлюсь со столяром сегодня… Революционер…»
Он пришёл первым, подарил Маше голубые бусы, Анфисе роговую гребёнку; они, довольные подарками, наперебой угощали его чаем и наливкой. Маша, красиво выгибая полную белую шею, заглядывала в лицо ему с доброй улыбкой, и глаза её мягко ласкали его сердце. Анфиса, разливая чай, спрашивала:
– Ну, купец наш тороватый, когда же мы на твоей свадьбе гулять будем?
Евсей конфузился и, стараясь не показывать этого, доверчиво рассказывал:
– Жениться я не решусь, – это очень трудно…
– Трудно? Ах ты, скромница… Марья, слышишь? Трудно, говорит, жениться-то…
Маша улыбалась в ответ на громкий смех кухарки, искоса поглядывая на Климкова.
– Может, они трудность по-своему понимают…
– Я – по-своему!.. – сказал Евсей, поднимая голову. – Я, видите ли, насчёт того, что человека найти трудно, – чтобы жить душа в душу и друг друга не бояться. Чтобы верить человеку…
Маша села рядом с ним, он покосился на её шею, грудь, вздохнул…
«А если сказать им – где я служу?..»
Испуганный этим желанием, он быстрым усилием задавил его и, повысив голос, торопливо продолжал:
– Если человек не понимает жизнь, то лучше пусть он один остаётся…
– Одному – очень трудно! – сказала Маша и налила ему рюмку наливки. – Выкушайте!
Евсею хотелось говорить много и открыто, он видел, что его слушают охотно, и это, вместе с двумя рюмками вина, возбуждало его. Но пришла горничная журналиста, Лиза, тоже возбуждённая, и сразу овладела вниманием Анфисы и Маши. Косая на левый глаз, бойкая, красиво причёсанная и ловко одетая, она казалась хорошенькой и бесстыдной.
– Мои идолы созвали гостей на сегодня и не хотят меня отпускать! – говорила она, усаживаясь. – Ну, нет, говорю, уж как вам угодно…
– Много гостей? – скучно спросил Климков, вспомнив свои обязанности.
– Мно-ого! Да ведь это какие гости? Никогда никто гривенника в руку не сунет. Даже в Новый год и то два рубля тридцать копеек собрала я на чай с них…
– Небогатые, значит? – спрашивал Евсей.
– Ну, какое богатство? Ни у кого галош крепких нету…
– Кто же они, служащие?
– Разные. Иной в газете пишет, другой просто студент, – ах, какой один хорошенький есть! Чернобровый, кудрявый, с усиками, зубы белые, ровные, весёлый-развесёлый. Недавно приехал из Сибири, всё про охоту рассказывает…
Евсей взглянул на Лизу и опустил голову; хотелось сказать ей:
«Перестаньте!..»
Но вместо этого он тихо спросил:
– Сослан был?
– Кто его знает! Мои господа тоже были ссыльные.
– Кого теперь не ссылают! – воскликнула кухарка. – Жила я у Попова, инженера; богатый человек, свой дом имел, лошадей, жениться собирался, – вдруг пришли ночью жандармы – цап!.. И заслали его в Сибирь…
– Я господ своих не осуждаю! – перебила её Лиза. – Нисколько. Они хорошие люди, не ругаются, не жадные… И всё они знают, обо всём говорят…
Евсей беспомощно посмотрел на румяное лицо Маши и подумал:
«Молчала бы, дура…»
– И у нас господа тоже всё понимают! – заявила Маша с гордостью.
– Когда случилось это – бунт в Петербурге, – оживлённо начала Лиза, – так у нас все ночи напролёт говорили…
– Ведь и наши были у вас! – снова заметила кормилица.
– Были, были! Много народу было! И говорили они, и писали жалобы, а один даже заплакал, ей-богу!