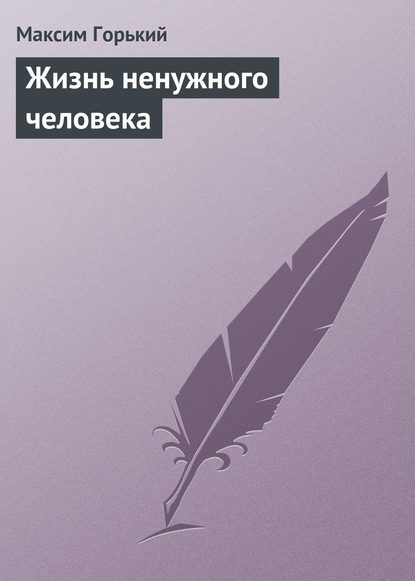По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Жизнь ненужного человека
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нам о таком предмете не указано рассуждать. Наше дело простое – взял опасное лицо, намеченное начальством, или усмотрел его своим разумом, собрал справочки, установил наблюдение, подал рапортички начальству, и – как ему угодно! Пусть хоть с живых кожицу сдирает – политика нас не касается… Был у нас служащий агент, Соковнин, Гриша, он тоже вот начал рассуждать и кончил жизнь свою при посредстве чахотки, в тюремной больнице…
Чаще всего беседы развивались так.
Веков, парикмахер, всегда одетый пёстро и модно, скромный и тихий, сообщал:
– Вчера троих арестовали…
– Экая новость! – равнодушно отзывался кто-нибудь. Но Веков непременно желал рассказать товарищам всё, что он знает, в его маленьких глазках загоралась искра тихого упрямства, и голос звучал вопросительно.
– На Никитской, кажется, господа революционеры опять что-то затевают – очень суетятся…
– Дурачьё! Там все дворники учёные…
– Однако, – осторожно говорил Веков, – дворника можно подкупить…
– И тебя тоже. Всякого человека можно подкупить, дело цены…
– Слышали, братцы, вчера Секачев семьсот рублей выиграл?
– Он передёргивает.
– Д-да, не шулер, а молодой бог…
Веков оглядывался, конфузливо улыбаясь, потом молча и тщательно оправлял свой костюм.
– Новая прокламация явилась! – сообщал он в другой раз.
– Много их! Чёрт их знает, которая новая…
– В них большое зло.
– Ты читал?
– Нет. Филипп Филиппович говорил – новая, и сердится.
– Начальники всегда сердятся, – закон природы! – вздыхая, замечал Грохотов.
– Кто читает эти прокламации!
– Ну – читают! И даже очень…
– Так что? Я тоже читал, а брюнетом не сделался, как был, так и есть рыжеватый. Дело не в прокламациях, а в бомбах…
– Прокламация – не взорвёт…
Но о бомбах не любили говорить, и почти каждый раз, когда кто-нибудь вспоминал о них, все усиленно старались свести разговор на другие темы.
– В Казани на сорок тысяч золотых вещей украдено!
Кто-нибудь оживлённо и тревожно справлялся:
– Поймали воров?
– Поймают! – с грустью предрекал другой.
– Ну, когда ещё это будет, а той порою люди поживут с удовольствием…
И всех охватывал туман зависти, люди погружались в мечты о кутежах, широкой игре, дорогих женщинах.
Мельников более других интересовался ходом войны и часто спрашивал Маклакова, внимательно читавшего газеты:
– Всё ещё бьют нас?
– Бьют.
– Какая же причина? – недоумённо, выкатывая глаза, восклицал Мельников. – Народу мало, что ли?
– Ума не хватает! – сухо отзывался Маклаков.
– Рабочие недовольны. Не понимают. Говорят – генералы подкуплены…
– Это наверное! – вмешался Красавин. – Они же все не русские, – он скверно выругался, – что им наша кровь?..
– Кровь дешёвая! – сказал Соловьев и странно улыбнулся.
Вообще же о войне говорили неохотно, как бы стесняясь друг друга, точно каждый боялся сказать какое-то опасное слово. В дни поражений все пили водку больше обычного, а напиваясь пьяными, ссорились из-за пустяков. Если во время беседы присутствовал Саша, он вскипал и ругался:
– Выродки! Вы ничего не понимаете!
В ответ ему иные улыбались извиняющейся улыбкой, другие хмуро молчали, иногда кто-нибудь негромко говорил:
– За сорок рублей в месяц не много поймёшь…
– Вас уничтожить надо! – взвизгивал Саша. Многие болели постоянным страхом побоев и смерти, некоторым, как Елизару Титову, приходилось лечиться от страха в доме для душевнобольных.
– Играю вчера в клубе, – сконфуженно рассказывал Пётр, – чувствую – в затылок давит и спине холодно. Оглянулся – стоит в углу высокий мужчина и смотрит на меня, как будто вершками меряет. Не могу играть! Встал из-за стола, вижу – он тоже двигается в углу. Я – задним ходом да бегом по лестнице, на двор, на улицу. А дальше не могу идти, – не могу! Всё кажется, что он сзади шагает. Крикнул извозчика, еду, сижу боком, оглядываюсь назад. Вдруг он откуда-то появился впереди и шагает через улицу, прямо перед лошадью – может, это не он, да тут уж не думаешь – ка-ак я закричу! Он остановился, а я из пролётки прыгнул да – бегом. Извозчик – за мной. Ну, и бежал я, чёрт возьми!
– Бывает! – улыбаясь, сказал Грохотов. – Я этак-то спрятался однажды во двор, а там ещё страшнее. Так я на крышу залез и до рассвета дня сидел за трубой. Человек человека должен опасаться, – закон природы…
Красавин пришёл однажды бледный, потный, глаза его остановились, он сдавил себе виски и тихо, угрюмо сообщил:
– Ну, за мной пошли…
– Кто?
– Ходят, – вообще…
Соловьев попробовал успокоить его: