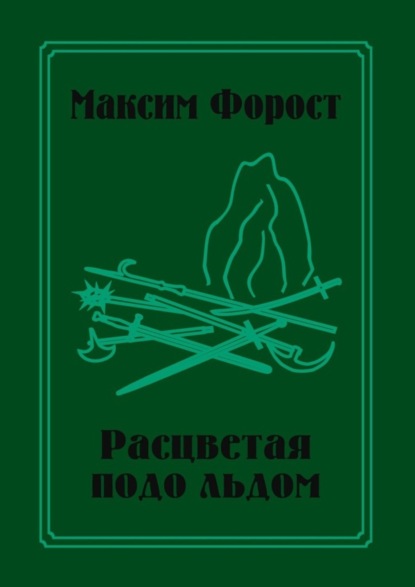По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Расцветая подо льдом
Автор
Год написания книги
2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А правильно скажешь – не по совести это! – клял самого себя Бравлин, а Грач помалкивал. – Но ведь, как доходно это, как выгодно… Златовид этот… с Вольхом ихним… А вот не я ихнюю войну придумал, слышишь ты, не я и решаю, кому мечи ковать. Вот, понял? Не, я к Роду Людскому ничего не имею… – заверил он и опять потребовал: – Ну! Чего скажешь-то?
Грач хлебнул браги, переждал, пока перестанет щипать горло, и выдавил:
– И я ничего не имею…
– Я и говорю! – перебил Бравлин, поудобнее уселся и сам налил себе стакан. – Не-е, и не говори, раньше мы лучше жили! При Братстве все были равны. А Братство старалось, чтобы все дружили и чтобы всем жилось счастливо, – хмелея, кузнец делался всё болтливее.
А Грач выслушал, глотнул из стакана, да взял и спросил:
– Куда же твоё Братство подевалось-то?
Бравлин осушил стакан и буркнул:
– Померло! И все мы помрём, – заявил так, будто собрался помереть завтра же. – Чего это Злат так на них взъярился?
Досадуя, Бравлин толкнул стакан по столу, расплескал и, расстроившись, стал вытирать рукавом пролитое.
– Наплюй, – посоветовал Грач и переставил стакан на сухое.
– Чего сразу наплюй-то?… – хмелея, не понимал Бравлин. – Род Людской-то это ведь кто? Они же как мы – лисунки, навии, берегини, – он чего-то показывал на пальцах. – Возьмет, скажем, парень за себя навию, так та родит ему либо сынка-человека, либо девку-навию. Заведено так!
Грач не спорил, кузнецу хотелось выговориться. Бравлин пил залпом, но на середине стакана вспомнил что-то важное и замычал:
– М-м-м! А из-за Асеня? Из-за Асеня – что? Чуть Сланьку не зарезал. Ну, певец, ну, гусляр – чем не угодил-то ему? Хотя скажем… Асень-то – первый друг кудесника Нила. Слыхал, что про него говорят? – Бравлин, осторожничая, понизил голос.
– Я слышал, что он с ума сошел.
Кузнец заговорщицки передвинулся на край скамьи, потом пересел к Грачу и зашептал в самое ухо, дыша хмелем:
– Не-е, говорят, хоть Нил и старый, а не помрет, пока не передаст силу кому-то другому. А силы за ним большие. В народе сказывают: Камни Царские… Ох, ведь как умён он, как умён!
– Ладно, сказки-то пересказывать! – Грач отодвинулся от хмельного кузнеца.
– Сказки? – тот решил было обидеться, но передумал: – А и то верно! Но с Нилом-то ещё и Ладис знался. Помнишь Ладиса? Помнишь, как он всё у нас взбаламутил?
– Помню, – вздрогнул Грач и напрягся.
– Загубили Ладиса! Жалко, хороший был парень, умный, войною не порченый. А говорил-то как, говорил: «Слободы за лесом выстроим. Без посадских повинностей заживём…» Что? Зажили? А всё потому, что Братство скинули. Эй, ты чего? – он замер. – Ну-ка, не кисни, Цветослав! – велел бодро. – Не ты же его укокошил, Ладиса-то…
– Да как же не я? – заспорил Грач. Он тоже опьянел, в голове начинало кружиться.
– А вот не ты. И раньше, говорю тебе, лучше жили! – кузнец сурово подытожил.
– Когда раньше-то? – протянул Грач.
– Когда нас не было. В старину! – решил Бравлин. – Песню помнишь про Купаву и Радима? Вон, когда дружно жили:
Я видывал тот дом в глаза —
Та-та, та-та, та-та…
Русалки заглянут порой,
Иль старый лесовик.
– Всё, больше не помню, – сбился кузнец. – А ты?
– А я, – поморщился Грач, – больше другие слова запомнил:
Дозволено изгоям жить
Вдали от всех – в глуши,
В лесах, где вечный снег лежит.
Дрожи, изгой, дрожи!
– Вот, зара-аза! – протянул Бравлин. – Выходит, и до нас не сладко жилось, – Бравлин, опершись на стол, поднялся. – Пойду я! Спасибо, Цветослав, за угощение.
Он отошёл к двери, помедлил.
– Не ты один, – сказал он вдруг. – Все мы здесь – изгои. В снегах, в глуши…
Кузнец тяжко вздохнул и вышел.
Глава V
Белым-бело на Плоскогорье! Бело от яблоневого и вишневого цвета, бело от искрящего по земле снега. Асень, славный певец, поднялся на Плоскогорье! Кто поёт слаще? Кто играет нежней? Чьи песни чудесней? Мальчишки разнесли по улицам весть, что Асень чуть свет поднялся на Плоскогорье.
Асень – он будто из легенд, а не из жизни. Он будто герой своей же песни. Явился в снега посреди яблоневого цвета. Разбил шалаш на выгонах за Навьим лесом – там, где мальчишки пасут жеребят. Они-то и кинулись гурьбой вокруг Навьего леса.
– Да угомонитесь вы, бешеные! Видали вы его, – засуетились матери, вытаскивая дочерям из сундуков всё самое лучшее.
Видать-то видали, да давно, в детстве, а это уже не считается, потому как не помнят они, а значит это неправда. Повсюду шум, колготня, сумятица. Старики под сто лет повылезали из домов и скрипучими голосами вещали, как сами парнями сбегали слушать Асеня. Им в уши кричали, что, они сон с явью путают, что не мог певец столько прожить, и то, якобы, был другой Асень. А старики злились и грозили палками. Молодняк вечно полагает, будто мир стоит столько, сколько они его помнят, и ни годом больше.
Асень смеялся. Вот он – вышел из шалаша, молодой и древний, страстный и тихий, буйный и мирный. Молва по миру ходит, будто солнце подарило ему глаза, море – уши, а деревья – язык. Лгут иль не лгут старики? А ведь и впрямь он высок и крепок, и он же чуть сгорблен и сед. Белая борода острижена и курчавой волной покрывает щёки, а из-под усов смеются губы. Глаза голубые, юные, лучатся весельем и счастьем. Певец протягивает руки плоскогорцам, приветствуя их. Гусли и рожок у него за спиной вздрагивают и норовят сами скатиться по плечам певцу в руки.
А в Плоскогорье цвели вишни и яблони. Даже здесь, за лесом, мерещился их запах…
– Ах, Асень! Милый Асень! Здравствуй! Оставайся же теперь с нами. Тут и живи, – упрашивают его ласковые девки, добрые жёнки да кое-кто из стариков.
– А я с вами, – смеётся певец, – сегодня я с вами! – и голос у него чист и звонок, мягок и добр. Как будто намешаны в нём шум деревьев, пенье птиц и журчанье ручья.
Из малышни – тот, кто посмелей – коснулся его, потрогал. Удивительно, певец живой и тёплый – всамделишный! Кто-то дёрнул Асеня за руку, увлекая: «Ну, пойдём же, пойдём!»
– Да куда же я от вас денусь! – отзывается певец ласково, и опять точно шумит в голосе листва, бегут ручьи и щебечут птицы.
Окруженный плоскогорцами Асень зашагал туда, куда увлекали. А вышло так, что набежало больше посадских, чем слобожан, певца обступили, задние толкали, и все невольно повлекли его вперёд – на дорогу в слободу, к Залесью.
Грач хлебнул браги, переждал, пока перестанет щипать горло, и выдавил:
– И я ничего не имею…
– Я и говорю! – перебил Бравлин, поудобнее уселся и сам налил себе стакан. – Не-е, и не говори, раньше мы лучше жили! При Братстве все были равны. А Братство старалось, чтобы все дружили и чтобы всем жилось счастливо, – хмелея, кузнец делался всё болтливее.
А Грач выслушал, глотнул из стакана, да взял и спросил:
– Куда же твоё Братство подевалось-то?
Бравлин осушил стакан и буркнул:
– Померло! И все мы помрём, – заявил так, будто собрался помереть завтра же. – Чего это Злат так на них взъярился?
Досадуя, Бравлин толкнул стакан по столу, расплескал и, расстроившись, стал вытирать рукавом пролитое.
– Наплюй, – посоветовал Грач и переставил стакан на сухое.
– Чего сразу наплюй-то?… – хмелея, не понимал Бравлин. – Род Людской-то это ведь кто? Они же как мы – лисунки, навии, берегини, – он чего-то показывал на пальцах. – Возьмет, скажем, парень за себя навию, так та родит ему либо сынка-человека, либо девку-навию. Заведено так!
Грач не спорил, кузнецу хотелось выговориться. Бравлин пил залпом, но на середине стакана вспомнил что-то важное и замычал:
– М-м-м! А из-за Асеня? Из-за Асеня – что? Чуть Сланьку не зарезал. Ну, певец, ну, гусляр – чем не угодил-то ему? Хотя скажем… Асень-то – первый друг кудесника Нила. Слыхал, что про него говорят? – Бравлин, осторожничая, понизил голос.
– Я слышал, что он с ума сошел.
Кузнец заговорщицки передвинулся на край скамьи, потом пересел к Грачу и зашептал в самое ухо, дыша хмелем:
– Не-е, говорят, хоть Нил и старый, а не помрет, пока не передаст силу кому-то другому. А силы за ним большие. В народе сказывают: Камни Царские… Ох, ведь как умён он, как умён!
– Ладно, сказки-то пересказывать! – Грач отодвинулся от хмельного кузнеца.
– Сказки? – тот решил было обидеться, но передумал: – А и то верно! Но с Нилом-то ещё и Ладис знался. Помнишь Ладиса? Помнишь, как он всё у нас взбаламутил?
– Помню, – вздрогнул Грач и напрягся.
– Загубили Ладиса! Жалко, хороший был парень, умный, войною не порченый. А говорил-то как, говорил: «Слободы за лесом выстроим. Без посадских повинностей заживём…» Что? Зажили? А всё потому, что Братство скинули. Эй, ты чего? – он замер. – Ну-ка, не кисни, Цветослав! – велел бодро. – Не ты же его укокошил, Ладиса-то…
– Да как же не я? – заспорил Грач. Он тоже опьянел, в голове начинало кружиться.
– А вот не ты. И раньше, говорю тебе, лучше жили! – кузнец сурово подытожил.
– Когда раньше-то? – протянул Грач.
– Когда нас не было. В старину! – решил Бравлин. – Песню помнишь про Купаву и Радима? Вон, когда дружно жили:
Я видывал тот дом в глаза —
Та-та, та-та, та-та…
Русалки заглянут порой,
Иль старый лесовик.
– Всё, больше не помню, – сбился кузнец. – А ты?
– А я, – поморщился Грач, – больше другие слова запомнил:
Дозволено изгоям жить
Вдали от всех – в глуши,
В лесах, где вечный снег лежит.
Дрожи, изгой, дрожи!
– Вот, зара-аза! – протянул Бравлин. – Выходит, и до нас не сладко жилось, – Бравлин, опершись на стол, поднялся. – Пойду я! Спасибо, Цветослав, за угощение.
Он отошёл к двери, помедлил.
– Не ты один, – сказал он вдруг. – Все мы здесь – изгои. В снегах, в глуши…
Кузнец тяжко вздохнул и вышел.
Глава V
Белым-бело на Плоскогорье! Бело от яблоневого и вишневого цвета, бело от искрящего по земле снега. Асень, славный певец, поднялся на Плоскогорье! Кто поёт слаще? Кто играет нежней? Чьи песни чудесней? Мальчишки разнесли по улицам весть, что Асень чуть свет поднялся на Плоскогорье.
Асень – он будто из легенд, а не из жизни. Он будто герой своей же песни. Явился в снега посреди яблоневого цвета. Разбил шалаш на выгонах за Навьим лесом – там, где мальчишки пасут жеребят. Они-то и кинулись гурьбой вокруг Навьего леса.
– Да угомонитесь вы, бешеные! Видали вы его, – засуетились матери, вытаскивая дочерям из сундуков всё самое лучшее.
Видать-то видали, да давно, в детстве, а это уже не считается, потому как не помнят они, а значит это неправда. Повсюду шум, колготня, сумятица. Старики под сто лет повылезали из домов и скрипучими голосами вещали, как сами парнями сбегали слушать Асеня. Им в уши кричали, что, они сон с явью путают, что не мог певец столько прожить, и то, якобы, был другой Асень. А старики злились и грозили палками. Молодняк вечно полагает, будто мир стоит столько, сколько они его помнят, и ни годом больше.
Асень смеялся. Вот он – вышел из шалаша, молодой и древний, страстный и тихий, буйный и мирный. Молва по миру ходит, будто солнце подарило ему глаза, море – уши, а деревья – язык. Лгут иль не лгут старики? А ведь и впрямь он высок и крепок, и он же чуть сгорблен и сед. Белая борода острижена и курчавой волной покрывает щёки, а из-под усов смеются губы. Глаза голубые, юные, лучатся весельем и счастьем. Певец протягивает руки плоскогорцам, приветствуя их. Гусли и рожок у него за спиной вздрагивают и норовят сами скатиться по плечам певцу в руки.
А в Плоскогорье цвели вишни и яблони. Даже здесь, за лесом, мерещился их запах…
– Ах, Асень! Милый Асень! Здравствуй! Оставайся же теперь с нами. Тут и живи, – упрашивают его ласковые девки, добрые жёнки да кое-кто из стариков.
– А я с вами, – смеётся певец, – сегодня я с вами! – и голос у него чист и звонок, мягок и добр. Как будто намешаны в нём шум деревьев, пенье птиц и журчанье ручья.
Из малышни – тот, кто посмелей – коснулся его, потрогал. Удивительно, певец живой и тёплый – всамделишный! Кто-то дёрнул Асеня за руку, увлекая: «Ну, пойдём же, пойдём!»
– Да куда же я от вас денусь! – отзывается певец ласково, и опять точно шумит в голосе листва, бегут ручьи и щебечут птицы.
Окруженный плоскогорцами Асень зашагал туда, куда увлекали. А вышло так, что набежало больше посадских, чем слобожан, певца обступили, задние толкали, и все невольно повлекли его вперёд – на дорогу в слободу, к Залесью.