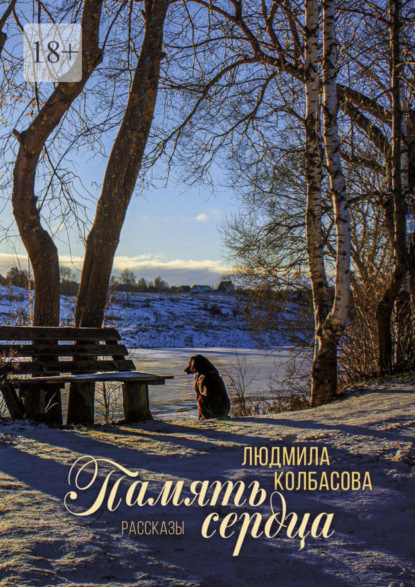По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Память сердца
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
А Ляля продолжала ждать и верила. Верила и бессонными ночами представляла их встречу. Ворошила короткую историю их зародившейся любви, искорка которой разгорелась в разлуке и вспыхнула ярким пламенем настоящей большой любви в её чистом верном сердце.
В родной город решили не возвращаться. Периодически мать Ляли ездила туда: на могилу отца, проверить квартиру. Но в очередной раз занемогла, и поехала Ляля.
Заканчивался сентябрь. Тёплый, пряный. Светило солнце, летала золотистая паутинка. Кружась, медленно осыпались листья. Ляля сидела на скамейке около подъезда, в котором жил Игорь, но переступить порог не могла. Страх неизвестности сковал и мысли, и тело. Она не могла уйти и не могла заставить себя позвонить в дверь. Из подъезда вышел старик погреться последним солнечным теплом и, развернув газету, сел рядом.
Собравшись с духом, выдохнув, спросила про Игоря.
– Помню, конечно, помню… Погиб парень в «Афганскую», – сказал он, но, увидев расширенные Лялины глаза и немой крик из закрытого ладошкой рта, быстро поправился, – но это не точно. Вначале говорили, что погиб, а после – пропал без вести. Могилы его нет. Матушка всё ездила, искала. Ты сходи в военкомат, там тебе всё скажут.
– А матушка его?
Старик пожал плечами:
– Съехала, говорят, а куда – не знаю. Ты в военкомат иди.
Он с сочувствием смотрел на молодую красивую рыжеволосую девушку и долго ещё рассуждал о несправедливости этой чужой войны. Но Ляля ничего больше не слышала…
В сердце билось и отдавалось в висках одно только страшное слово «погиб…»
Она шла аллеей парка по шуршащим листьям, и каждый шаг отдавался болью в душе: «Погиб, погиб… погиб».
Не заметила, как ноги сами привели к маленькому деревянному храму. Тишина, прохлада, приятный сладкий запах ладана. Поставила свечку на канун и вдруг встрепенулась: «А если живой?» Испугалась!
– Возможно, жив, – всхлипывая, второпях рассказывала работнице храма, – без вести, говорят, пропал…, а я ему свечку на канун…
– Так, милая, у Бога все живы, ты, главное, молись. Может, молитвы ему сейчас ох, как нужны, – успокаивала её пожилая женщина.
* * *
Дома Лялю не узнали. Скорбная морщинка легла между бровей, а мягкие, пухлые ещё, девичьи губы плотно сомкнулись, как бывает у переживших большое горе, потерявших самых близких…
– Ты хоть скажи, дочка, как его звали? А то дала сынишке отчество деда? – допытывалась мать.
– Это моё, мама, личное, не скажу. Не спрашивай…
6
Прошло много лет.
Красивая рыжеволосая женщина медленно подходила к дому. На скамейке у калитки стояла обувная коробка, из которой слышалось жалобное мяуканье.
– Опять, – устало выдохнула Ляля и аккуратно достала крошечного испуганного котёнка. В округе знали, что в этом доме любят кошек и частенько оставляли у них на пороге такие вот коробки с сюрпризом.
– Игорёк, – крикнула она, входя в дом, – опять подбросили. Иди, посмотри, чудо какое.
Из комнаты вышел высокий, стройный, по-юношески румяный парень, а за ним, лениво потягиваясь, медленно и с достоинством выглянули из разных дверей дома три кошки.
– В вашем полку прибыло, – Ляля присела с котиком на руках на корточки, – знакомьтесь.
Кошки медленно подошли, зашевелили усами и потянулись носами к незваному гостю. Самая капризная и ревнивая Белка, светлая пушистая кошечка с огромными жёлтыми глазами, постояла, недовольно размахивая хвостом, понюхала, лизнула и равнодушно пошла на кухню, жалобно прося есть. Смешливая и озорная Фрося, трёхцветная короткошёрстная кошка, проявила больший интерес и принялась заботливо вылизывать подкидыша. Чёрно-белая Мурка с зелёными круглыми глазами, самая старая в доме, даже не подошла. Ей, много повидавшей на своём веку, какие-то котята были уже не интересны.
Из дальней комнаты раздался хриплый старческий голос:
– Опять кошку в дом принесла? Что же ты за котяру такого в своей жизни встретила, что до сих пор подбираешь всех кошек и не выходишь замуж?
Мать Ляли давно не вставала. К старости она стала удивительно цинична и высказывала, порой, такие скабрёзности, которые, впрочем, простительны старикам.
– Мама, бабушка права, может, хватит в доме кошек? – сказал сын, держа на руках котёнка и нежно его поглаживая.
– Ты, сынок, как никто другой должен любить котят. Ведь именно маленькой Мурке ты обязан своим рождением, – ответила Ляля, которую уже давно все называли Елизаветой Андреевной. Она работала в школе учителем русского языка и литературы.
– И когда же ты, наконец, расскажешь тёмную историю моего рождения? – в который раз поинтересовался сын.
Елизавета вздохнула:
– Нет, не тёмную, а светлую, – сказала она тихо, как будто самой себе.
– Значит, это тоже будет Мурка, – поставил точку в разговоре Игорёк, и пошёл готовить тазик для купания и обработки котёнка.
– Ой, неспроста в доме вновь появилась ещё одна Мурка, неспроста. Чует моё сердце: быть беде! – раздался крик из спальни.
Эти слова оказались пророческими. Мать Елизаветы хватил удар. То есть, случился второй инсульт, и более серьёзный, чем первый. Она была ещё не совсем стара, но напасти судьбы сильно подорвали её здоровье.
– Что мне делать? – спрашивала Елизавета у приятельницы, – Чувствую, что-то неправильно делаю, что-то самое главное в своей жизни упускаю.
– Прекращай жить мечтами и воспоминаниями, – махнула рукой подруга, – и хватит хранить верность неизвестно кому…, а к матери пригласи священника, пусть причастит. Да ты и сама забросила в церковь ходить.
Ляля кивнула головой соглашаясь. Долгое время она регулярно поминала Игоря, молилась о нём, но в круговерти дней стала всё реже и реже появляться в храме. Игоря не забыла, но вера её надломилась, а смирение с горечью и какой-то глубокой обидой поселились в сердце. Мечты о встрече рассыпались, как карточный домик, и не приносили былой радости короткого, мечтательного, призрачного счастья. Любовь по-прежнему горела в сердце, но уже с горечью и без всякой надежды.
Священника пригласили, маму причастили, и она спокойно, с миром в душе, отошла.
Осень в том году выдалась необыкновенно тёплой и солнечной. Только ближе к Покрову вмиг пожелтели листья и полетели в подол листопада, застилая пёстрым шуршащим ковром землю. А накануне самого праздника неожиданно случилось ещё одно бабье лето, волнуя, радуя и молодых, и старых.
На праздничную службу Ляля с сыном пришли заранее. Подали записочки, поставили свечи и встали в уголочке недалеко от свечного киоска. Слышали, как весело, шутя, говорили певчие про нового у них в храме иподиакона. Молодой, да холостой, ещё не рукоположен, он волновал сердца верующих девушек, которые мечтали стать матушками. Да и ему надобно скоро жениться. Улыбалась весело, вместе с певчими, и Ляля. Слушая разговоры, растеряла молитвенный настрой, и никак не могла сосредоточиться. А потом накатила грусть, и вся её жизнь картинками пролетала перед ней: первая встреча, любовь, смерти отца, бабушки, мамы…
Священник совершал каждение, торопливо обходя храм. Она, как и положено, отступила, поклонилась, и чётко услышала слова, что негромко читал батюшка: «…Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя…».
Опять ненужные мысли полезли в голову. Отмахиваясь от назойливых воспоминаний, она заставляла себя внимать праздничному архиерейскому богослужению, но почему-то была рассеянна.
Готовился крестный ход. Участники его, сплочённые единой верой, выстраивались в определённом порядке для свершения этого символического шествия. Священнослужители в нарядных голубых одеждах. Иконы, хоругви и другие церковные святыни.
Распахиваются двери храма и возносится ввысь – ко Престолу Господа – живая людская молитва, и солнце ярким светом озаряет радостные лица верующих. В этой суете Ляля оказалась прижата к узким входным дверям. Сердце её также наполнилось Божьей благодатью и вспомнились слова: ««Крестный ход идёт – ад трепещет». И вдруг…
Вдруг как наваждение, словно всполох молнии – она видит Игоря. Он проходит мимо, в руках икона… Не может быть… Показалось? Нет! Она успела заметить седину на висках, шрам на щеке, и поймать задумчивый взгляд его тёмных красивых глаз… До боли родных…
– Игорь! – закричала испуганно, и потянулась вперёд руками, стараясь задержать его, – Игорь!
Он резко обернулся, но колонна верующих, как горная река, не останавливаясь, решительно двигалась вперёд.
В родной город решили не возвращаться. Периодически мать Ляли ездила туда: на могилу отца, проверить квартиру. Но в очередной раз занемогла, и поехала Ляля.
Заканчивался сентябрь. Тёплый, пряный. Светило солнце, летала золотистая паутинка. Кружась, медленно осыпались листья. Ляля сидела на скамейке около подъезда, в котором жил Игорь, но переступить порог не могла. Страх неизвестности сковал и мысли, и тело. Она не могла уйти и не могла заставить себя позвонить в дверь. Из подъезда вышел старик погреться последним солнечным теплом и, развернув газету, сел рядом.
Собравшись с духом, выдохнув, спросила про Игоря.
– Помню, конечно, помню… Погиб парень в «Афганскую», – сказал он, но, увидев расширенные Лялины глаза и немой крик из закрытого ладошкой рта, быстро поправился, – но это не точно. Вначале говорили, что погиб, а после – пропал без вести. Могилы его нет. Матушка всё ездила, искала. Ты сходи в военкомат, там тебе всё скажут.
– А матушка его?
Старик пожал плечами:
– Съехала, говорят, а куда – не знаю. Ты в военкомат иди.
Он с сочувствием смотрел на молодую красивую рыжеволосую девушку и долго ещё рассуждал о несправедливости этой чужой войны. Но Ляля ничего больше не слышала…
В сердце билось и отдавалось в висках одно только страшное слово «погиб…»
Она шла аллеей парка по шуршащим листьям, и каждый шаг отдавался болью в душе: «Погиб, погиб… погиб».
Не заметила, как ноги сами привели к маленькому деревянному храму. Тишина, прохлада, приятный сладкий запах ладана. Поставила свечку на канун и вдруг встрепенулась: «А если живой?» Испугалась!
– Возможно, жив, – всхлипывая, второпях рассказывала работнице храма, – без вести, говорят, пропал…, а я ему свечку на канун…
– Так, милая, у Бога все живы, ты, главное, молись. Может, молитвы ему сейчас ох, как нужны, – успокаивала её пожилая женщина.
* * *
Дома Лялю не узнали. Скорбная морщинка легла между бровей, а мягкие, пухлые ещё, девичьи губы плотно сомкнулись, как бывает у переживших большое горе, потерявших самых близких…
– Ты хоть скажи, дочка, как его звали? А то дала сынишке отчество деда? – допытывалась мать.
– Это моё, мама, личное, не скажу. Не спрашивай…
6
Прошло много лет.
Красивая рыжеволосая женщина медленно подходила к дому. На скамейке у калитки стояла обувная коробка, из которой слышалось жалобное мяуканье.
– Опять, – устало выдохнула Ляля и аккуратно достала крошечного испуганного котёнка. В округе знали, что в этом доме любят кошек и частенько оставляли у них на пороге такие вот коробки с сюрпризом.
– Игорёк, – крикнула она, входя в дом, – опять подбросили. Иди, посмотри, чудо какое.
Из комнаты вышел высокий, стройный, по-юношески румяный парень, а за ним, лениво потягиваясь, медленно и с достоинством выглянули из разных дверей дома три кошки.
– В вашем полку прибыло, – Ляля присела с котиком на руках на корточки, – знакомьтесь.
Кошки медленно подошли, зашевелили усами и потянулись носами к незваному гостю. Самая капризная и ревнивая Белка, светлая пушистая кошечка с огромными жёлтыми глазами, постояла, недовольно размахивая хвостом, понюхала, лизнула и равнодушно пошла на кухню, жалобно прося есть. Смешливая и озорная Фрося, трёхцветная короткошёрстная кошка, проявила больший интерес и принялась заботливо вылизывать подкидыша. Чёрно-белая Мурка с зелёными круглыми глазами, самая старая в доме, даже не подошла. Ей, много повидавшей на своём веку, какие-то котята были уже не интересны.
Из дальней комнаты раздался хриплый старческий голос:
– Опять кошку в дом принесла? Что же ты за котяру такого в своей жизни встретила, что до сих пор подбираешь всех кошек и не выходишь замуж?
Мать Ляли давно не вставала. К старости она стала удивительно цинична и высказывала, порой, такие скабрёзности, которые, впрочем, простительны старикам.
– Мама, бабушка права, может, хватит в доме кошек? – сказал сын, держа на руках котёнка и нежно его поглаживая.
– Ты, сынок, как никто другой должен любить котят. Ведь именно маленькой Мурке ты обязан своим рождением, – ответила Ляля, которую уже давно все называли Елизаветой Андреевной. Она работала в школе учителем русского языка и литературы.
– И когда же ты, наконец, расскажешь тёмную историю моего рождения? – в который раз поинтересовался сын.
Елизавета вздохнула:
– Нет, не тёмную, а светлую, – сказала она тихо, как будто самой себе.
– Значит, это тоже будет Мурка, – поставил точку в разговоре Игорёк, и пошёл готовить тазик для купания и обработки котёнка.
– Ой, неспроста в доме вновь появилась ещё одна Мурка, неспроста. Чует моё сердце: быть беде! – раздался крик из спальни.
Эти слова оказались пророческими. Мать Елизаветы хватил удар. То есть, случился второй инсульт, и более серьёзный, чем первый. Она была ещё не совсем стара, но напасти судьбы сильно подорвали её здоровье.
– Что мне делать? – спрашивала Елизавета у приятельницы, – Чувствую, что-то неправильно делаю, что-то самое главное в своей жизни упускаю.
– Прекращай жить мечтами и воспоминаниями, – махнула рукой подруга, – и хватит хранить верность неизвестно кому…, а к матери пригласи священника, пусть причастит. Да ты и сама забросила в церковь ходить.
Ляля кивнула головой соглашаясь. Долгое время она регулярно поминала Игоря, молилась о нём, но в круговерти дней стала всё реже и реже появляться в храме. Игоря не забыла, но вера её надломилась, а смирение с горечью и какой-то глубокой обидой поселились в сердце. Мечты о встрече рассыпались, как карточный домик, и не приносили былой радости короткого, мечтательного, призрачного счастья. Любовь по-прежнему горела в сердце, но уже с горечью и без всякой надежды.
Священника пригласили, маму причастили, и она спокойно, с миром в душе, отошла.
Осень в том году выдалась необыкновенно тёплой и солнечной. Только ближе к Покрову вмиг пожелтели листья и полетели в подол листопада, застилая пёстрым шуршащим ковром землю. А накануне самого праздника неожиданно случилось ещё одно бабье лето, волнуя, радуя и молодых, и старых.
На праздничную службу Ляля с сыном пришли заранее. Подали записочки, поставили свечи и встали в уголочке недалеко от свечного киоска. Слышали, как весело, шутя, говорили певчие про нового у них в храме иподиакона. Молодой, да холостой, ещё не рукоположен, он волновал сердца верующих девушек, которые мечтали стать матушками. Да и ему надобно скоро жениться. Улыбалась весело, вместе с певчими, и Ляля. Слушая разговоры, растеряла молитвенный настрой, и никак не могла сосредоточиться. А потом накатила грусть, и вся её жизнь картинками пролетала перед ней: первая встреча, любовь, смерти отца, бабушки, мамы…
Священник совершал каждение, торопливо обходя храм. Она, как и положено, отступила, поклонилась, и чётко услышала слова, что негромко читал батюшка: «…Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя…».
Опять ненужные мысли полезли в голову. Отмахиваясь от назойливых воспоминаний, она заставляла себя внимать праздничному архиерейскому богослужению, но почему-то была рассеянна.
Готовился крестный ход. Участники его, сплочённые единой верой, выстраивались в определённом порядке для свершения этого символического шествия. Священнослужители в нарядных голубых одеждах. Иконы, хоругви и другие церковные святыни.
Распахиваются двери храма и возносится ввысь – ко Престолу Господа – живая людская молитва, и солнце ярким светом озаряет радостные лица верующих. В этой суете Ляля оказалась прижата к узким входным дверям. Сердце её также наполнилось Божьей благодатью и вспомнились слова: ««Крестный ход идёт – ад трепещет». И вдруг…
Вдруг как наваждение, словно всполох молнии – она видит Игоря. Он проходит мимо, в руках икона… Не может быть… Показалось? Нет! Она успела заметить седину на висках, шрам на щеке, и поймать задумчивый взгляд его тёмных красивых глаз… До боли родных…
– Игорь! – закричала испуганно, и потянулась вперёд руками, стараясь задержать его, – Игорь!
Он резко обернулся, но колонна верующих, как горная река, не останавливаясь, решительно двигалась вперёд.