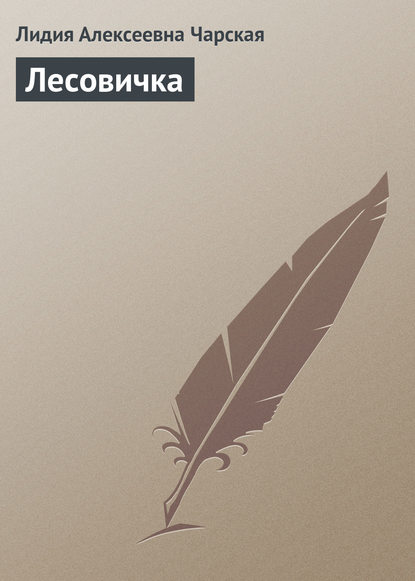По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лесовичка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как пять рублей! Но ведь здесь пятьдесят рублей одного товара, не считая работы!
– Так и убирайтесь вон с вашим товаром! – кричит она и грубо пихает вещи обратно в саквояж.
Как в вихре переносится моя мысль в тесную мансарду: несчастная Зиночка, голодные дети и ни капли молока на завтра.
– Давайте 5 рублей, все равно, – глухо выговариваю я, потому что мое горло сжимается тисками, – да вот еще и саквояж возьмите.
– Полтинник за саквояж и ни копейки больше.
– Хорошо, – говорю я и невольно сжимаю губы.
Тут же на толкучке я покупаю мясо и овощи и спешу домой. В сердце, несмотря ни на что, царит радость.
Слава Богу, дети не останутся голодными более или менее продолжительное время!
Мая… 190… г
Неужели я не писала почти целый месяц? Ах, какой это был месяц! Что только мы не перенесли в продолжение его!
Вырученных денег хватило ненадолго. Надо было измышлять новые получки. За платьями я снесла на толкучку белье, за бельем – пальто и шляпы. У нас осталось лишь по одной смене белья и по одному носильному костюму… Зато дети сыты, они не испытывают нужды.
– Работать, работать надо… – повторяли мы ежедневно, я и Зиночка.
Но где найти работу, откуда?
Хозяйка, ее муж и сыновья подозрительно косятся на нас. Я слышу нелестные отзывы о нашей благонадежности.
Я просила несколько раз хозяйку рекомендовать меня в поденщицы. Она только презрительно смеется:
– Куда уж вам! Белоручки вы! Сидите уж дома.
Хорошо ей говорить это. Но кто же прокормит Зиночку и детей? Не Зиночке же работать! Она барышня, вдова офицера. А я? Кто я? Я просто дитя леса, умевшее справлять самую черную работу в доме лесничего.
Мая… 190… г
Последние гроши вышли. Не на что не только сварить обеда, но и купить молока. Мне удалося лишь достать в ближайшей лавочке весового хлеба для детей.
Зека ничего не понимает, по-прежнему смеется, звонко и весело, и иногда просит пряничка у меня и Зины…
Валя молчит, только личико его серьезнее и печальнее обыкновенного. Смотрит жалкими глазенками на мать и крепится, чтобы не заплакать. Иногда подойдет ко мне, уткнется курчавой головенкой в колени, как котенок, и молчит.
Какая пытка, это молчание голодного ребенка, какая мука!
Июня… 190… г
На улице лето, душно и жарко. Вся природа тихо и ласково ликует.
У нас в мансарде ужас.
Дети напомнили о голоде; первый – Зека.
– Мама, дай хлебца… Я кушать хочу… – попросил он.
Валя бросился к брату.
– Постой, Зечка, рано обедать!
– Но я кушать хочу! – настаивал ребенок.
Зиночка забилась в угол и беззвучно рыдает.
Боже мой, как вынести эту пытку! И все из-за меня! Я одна во всем виновата. Ради меня ведь уехали мы в это захолустье. Не убеги я от преследования Манефы – они остались бы на виду их друзей, которые не допустили бы их голодной смерти…
А теперь…
Неужели непоправимо содеянное мною?.. Нет, нет, вздор!.. Еще не поздно, еще можно поправить.
Я беру перо и пишу Мише Колюзину, в каком мы положении, что переживаем. Пишу на клочке бумаги, без марки. Молю сделать подписку среди артистов в театре и прислать нам сколько-нибудь денег, потому что мы нищие, нищие вполне… И это пишу я, гордая Ксаня! Гордая лесная девочка, не склонявшая ни перед кем головы!.. Но я не для себя прошу: для Зеки, Вали… Несчастные дети!.. Чем виноваты они?
В этот вечер они улеглись спать, поглодав корку черствого хлеба. Я сумела выпросить его у хозяйки. Эта злая женщина чуть ли не ежедневно напоминает о том, что сгонит нас с квартиры, потому что мы уже две недели не платим за нее. Но она сжалилась над детьми и швырнула мне этот черствый кусок для них…
Июня… 190… г
Утром я была поражена ужасным видом детей. Их личики стали прозрачны и худы до неузнаваемости. Глаза поражали своей величиной. Зека заплакал, прося кушать.
– Крошечку, мамочка… одну только крошечку хлебца!.. – молил он.
Этот слабенький, вымученный голосок рвал душу. Валя молчал, только огромные глаза его сверкали.
Зиночка, бледная и худая, как тень, пошатываясь подошла ко мне и прошептала:
– Я не могу… я не могу выносить больше этого, Ксаня… Уж лучше умереть всем сразу!..
Я тоже того мнения, лучше сразу. Я не железная и муки голода делают свое дело…
Дети немного кушали вчера, но у меня с Зиночкой двое суток не было во рту ни куска, ни крошки.
Как безумная кидаюсь я к хозяйке:
– Хлеба!.. Ради Бога!.. Хоть кусочек!.. Хоть крошку!..
Мое лицо, должно быть, слишком красноречиво говорит о том, что мы переживаем там, наверху, в мансарде… Хозяйка бранится и… все-таки дает краюшку… Когда я, с жадностью схватив ее, кидаюсь к дверям, она кричит мне вдогонку:
– Эй вы, дармоедка! Вот работу просили. Есть работа у меня: белье мне постирайте сегодня… Два гривенника заплачу.
– Белье?.. Да… да… хорошо… сейчас… сейчас, – в я уже взвиваюсь по лестнице туда, в мансарду.
Три пары лихорадочно горящих глаз впиваются в кусок хлеба, который я держу, как редкое сокровище, обеими руками. Я надламываю его… Мои пальцы дрожат… Одну половинку Вале, другую Зеке… Зека хватает свою порцию и лихорадочно быстро уписывает ее… Сухая корка хрустит на его зубенках… О, этот хруст! Он выворачивает всю мою внутренность… Он нестерпим для моего голодного желудка…
– Так и убирайтесь вон с вашим товаром! – кричит она и грубо пихает вещи обратно в саквояж.
Как в вихре переносится моя мысль в тесную мансарду: несчастная Зиночка, голодные дети и ни капли молока на завтра.
– Давайте 5 рублей, все равно, – глухо выговариваю я, потому что мое горло сжимается тисками, – да вот еще и саквояж возьмите.
– Полтинник за саквояж и ни копейки больше.
– Хорошо, – говорю я и невольно сжимаю губы.
Тут же на толкучке я покупаю мясо и овощи и спешу домой. В сердце, несмотря ни на что, царит радость.
Слава Богу, дети не останутся голодными более или менее продолжительное время!
Мая… 190… г
Неужели я не писала почти целый месяц? Ах, какой это был месяц! Что только мы не перенесли в продолжение его!
Вырученных денег хватило ненадолго. Надо было измышлять новые получки. За платьями я снесла на толкучку белье, за бельем – пальто и шляпы. У нас осталось лишь по одной смене белья и по одному носильному костюму… Зато дети сыты, они не испытывают нужды.
– Работать, работать надо… – повторяли мы ежедневно, я и Зиночка.
Но где найти работу, откуда?
Хозяйка, ее муж и сыновья подозрительно косятся на нас. Я слышу нелестные отзывы о нашей благонадежности.
Я просила несколько раз хозяйку рекомендовать меня в поденщицы. Она только презрительно смеется:
– Куда уж вам! Белоручки вы! Сидите уж дома.
Хорошо ей говорить это. Но кто же прокормит Зиночку и детей? Не Зиночке же работать! Она барышня, вдова офицера. А я? Кто я? Я просто дитя леса, умевшее справлять самую черную работу в доме лесничего.
Мая… 190… г
Последние гроши вышли. Не на что не только сварить обеда, но и купить молока. Мне удалося лишь достать в ближайшей лавочке весового хлеба для детей.
Зека ничего не понимает, по-прежнему смеется, звонко и весело, и иногда просит пряничка у меня и Зины…
Валя молчит, только личико его серьезнее и печальнее обыкновенного. Смотрит жалкими глазенками на мать и крепится, чтобы не заплакать. Иногда подойдет ко мне, уткнется курчавой головенкой в колени, как котенок, и молчит.
Какая пытка, это молчание голодного ребенка, какая мука!
Июня… 190… г
На улице лето, душно и жарко. Вся природа тихо и ласково ликует.
У нас в мансарде ужас.
Дети напомнили о голоде; первый – Зека.
– Мама, дай хлебца… Я кушать хочу… – попросил он.
Валя бросился к брату.
– Постой, Зечка, рано обедать!
– Но я кушать хочу! – настаивал ребенок.
Зиночка забилась в угол и беззвучно рыдает.
Боже мой, как вынести эту пытку! И все из-за меня! Я одна во всем виновата. Ради меня ведь уехали мы в это захолустье. Не убеги я от преследования Манефы – они остались бы на виду их друзей, которые не допустили бы их голодной смерти…
А теперь…
Неужели непоправимо содеянное мною?.. Нет, нет, вздор!.. Еще не поздно, еще можно поправить.
Я беру перо и пишу Мише Колюзину, в каком мы положении, что переживаем. Пишу на клочке бумаги, без марки. Молю сделать подписку среди артистов в театре и прислать нам сколько-нибудь денег, потому что мы нищие, нищие вполне… И это пишу я, гордая Ксаня! Гордая лесная девочка, не склонявшая ни перед кем головы!.. Но я не для себя прошу: для Зеки, Вали… Несчастные дети!.. Чем виноваты они?
В этот вечер они улеглись спать, поглодав корку черствого хлеба. Я сумела выпросить его у хозяйки. Эта злая женщина чуть ли не ежедневно напоминает о том, что сгонит нас с квартиры, потому что мы уже две недели не платим за нее. Но она сжалилась над детьми и швырнула мне этот черствый кусок для них…
Июня… 190… г
Утром я была поражена ужасным видом детей. Их личики стали прозрачны и худы до неузнаваемости. Глаза поражали своей величиной. Зека заплакал, прося кушать.
– Крошечку, мамочка… одну только крошечку хлебца!.. – молил он.
Этот слабенький, вымученный голосок рвал душу. Валя молчал, только огромные глаза его сверкали.
Зиночка, бледная и худая, как тень, пошатываясь подошла ко мне и прошептала:
– Я не могу… я не могу выносить больше этого, Ксаня… Уж лучше умереть всем сразу!..
Я тоже того мнения, лучше сразу. Я не железная и муки голода делают свое дело…
Дети немного кушали вчера, но у меня с Зиночкой двое суток не было во рту ни куска, ни крошки.
Как безумная кидаюсь я к хозяйке:
– Хлеба!.. Ради Бога!.. Хоть кусочек!.. Хоть крошку!..
Мое лицо, должно быть, слишком красноречиво говорит о том, что мы переживаем там, наверху, в мансарде… Хозяйка бранится и… все-таки дает краюшку… Когда я, с жадностью схватив ее, кидаюсь к дверям, она кричит мне вдогонку:
– Эй вы, дармоедка! Вот работу просили. Есть работа у меня: белье мне постирайте сегодня… Два гривенника заплачу.
– Белье?.. Да… да… хорошо… сейчас… сейчас, – в я уже взвиваюсь по лестнице туда, в мансарду.
Три пары лихорадочно горящих глаз впиваются в кусок хлеба, который я держу, как редкое сокровище, обеими руками. Я надламываю его… Мои пальцы дрожат… Одну половинку Вале, другую Зеке… Зека хватает свою порцию и лихорадочно быстро уписывает ее… Сухая корка хрустит на его зубенках… О, этот хруст! Он выворачивает всю мою внутренность… Он нестерпим для моего голодного желудка…