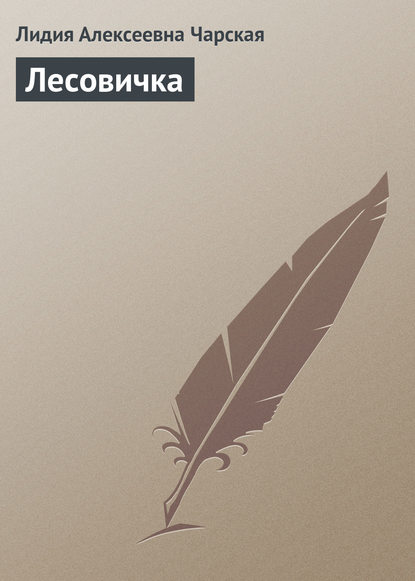По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лесовичка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну, со Христом ступайте, а то опоздаете: поезд не ждет.
– И то не ждет.
И Аннушка широко распахнула дверь кельи.
Лариса вышла. В коридоре уже толпились подруги. И опять находившейся среди них Уленьке показались странными их возбужденные, бледные лица и какою-то затаенной тревогой блестевшие глаза.
– Прощай, Ларенька! Прощай, родная! – бросаясь к ней на шею, прорыдала Раечка.
– Всего лучшего, Лариса!
Ольга Линсарова горячо пожала руку Ливанской.
– Прощайте, моя королева Ларя! Прощайте, милая белокурая красавица!
И Катюша буквально душила уезжавшую поцелуями.
– Чудно как, – мучительно соображала Уленька, глядя на эту сцену. Прощаются-то, словно навек расстаются! Ой, не к добру это!.. Добежать бы до матушки… Оповестить бы… А еще, как на грех, сестра Агния запропастилась!
Между тем усилиями подруг Лариса была одета. Теплый бурнус, капор, огромный платок на голове. Из-под платка выглядывает белое, как мел, личико, трепетные, испуганные, как у серны, глаза. Эти глаза отыскали в толпе Ксаню.
– Спасибо, милая, век не забуду! – шепнули дрожащие губки Лареньки.
Казалось бы, никто, кроме Ксани, не должен был услышать тех слов, но нет: услыхала Уленька.
Вся бледная от охвативших ее подозрений, она выскочила вперед.
– Стой! Чего не забудешь? А? Говори! Сознавайся! Нет, скажу матушке, зашипела она, крепко схватив за руку Ларису.
Та побледнела, как смерть, под своим платком. Побледнели за нею и все остальные девочки.
«Начинается! Вот он ужас-то где!» – мысленно произнесла каждая из них.
Но тут выступила Аннушка.
– Что ты? Аль рехнулась, чернорясница! Что тебе привиделось-то? Что мою барышню держишь? А? Опоздаем из-за тебя на поезд, – звонко и развязно выкрикнула она. – Пусти, что ли!..
– Не пущу! – в свою очередь выкрикнула Уленька и, прежде чем кто-либо успел предупредить ее, закричала отчаянным голосом на весь пансион:
– Матушка! Благодетельница! Сюда! Сюда! Неладно что-то! Скорее, матушка! Караул… Кара…
– Молчи, несчастная!
И тяжелая, сильная рука легла на рот Уленьки, не дав ей докончить. Желая освободиться, последняя рванулась назад, зацепила платок, покрывавший голову Аннушки, и лицо последней открылось.
Ах, что это было за лицо! Не девичье, нет – с бойкими, чересчур смелыми глазами, с предательскими усиками над крупным, характерным юношеским ртом, с коротко остриженными волосами.
– Ай, мужчина! – не своим голосом взвизгнула Уленька и со страху присела на пол.
Произошла сумятица. Девочки кинулись к Уленьке, загораживая собою путь к Манефиной келье.
Тем временем усатая девушка, быстро накинув опять на голову платок, схватила обезумевшую от страха Ларису и кинулась с ней на крыльцо, через темную прихожую мимо изумленно вперившего в них глаза сторожа Назимова.
Входная дверь хлопнула.
Одновременно с ней захлопали и другие двери. Мать Манефа, сестра Агния и старая Секлетея – все устремились к группе девочек и кричавшей теперь во весь голос Уленьке.
В страшной суматохе кричали все.
И Манефа, и девочки, и Агния, и сторож.
Кричали о разбойниках, об усах, о похищении и еще о чем-то, что было невозможно разобрать.
Эта общая, преднамеренно затеянная монастырками суматоха много помогла делу.
Когда все утихло и грозный голос матери Манефы потребовал объяснения, Лариса Ливанская, вместе с мнимою прислугою ее бабушки Аннушкою – а на самом деле переодетым Виктором, – были уже далеко.
Глава XII
Доносчица. – Громы и молнии. – Месть. – Печальный конец
Все видели, как красная и взволнованная Уленька вошла в келью матушки, видели, как долго оставалась дверь кельи закрытой на ключ, и слышали, как за дверью нашептывал что-то ненавистный голос послушницы.
– Ну, теперь донесет на всех! Будет ужо всем на орехи! – с неприятным чувством шептались девочки.
– Вот бы ее за это, доносчицу, язву, кляузницу!
– Свое получит! Не останется без гостинца!
– А все же ловко выхватили Лареньку!
– Что и говорить!
– Небось, уж на вокзале теперь!
– Какое! Катит!
– Неужто уж в поезде?
– А ты думала как?
– Слава Богу!
Девочки тихонько крестились и поздравляли друг друга. Но, несмотря на приятное сознание, что Лариса находится теперь вне всякой опасности, где-то в самой глубине детских душ разгоралось яркое пламя тревоги.
Все знали, что «доносчица» Уленька вместе с сестрой Агнией больше двух часов пробыли у матушки в келье, что позвали туда Секлетею и Назимова и что, наконец, после пансионского ужина, в Манефину келью плавной и неторопливой походкой пришел отец Вадим, приглашенный письмом от матушки.
«Ну, будет теперь потеха!» – с тоскою говорили девочки, и души их наполнялись все больше и больше тревогой.