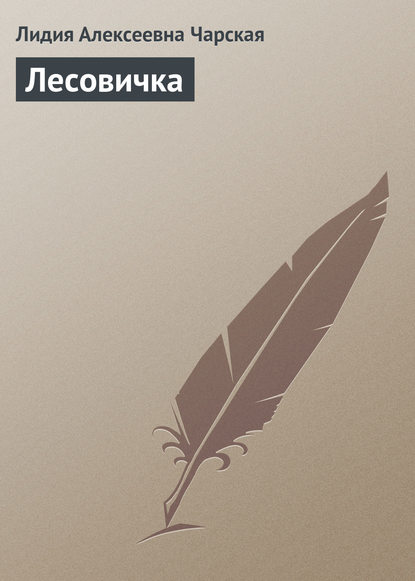По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лесовичка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Составили несколько ночных столиков рядом, покрыли их салфеткой, расставили яства, и пир начался.
– Девочки, милые! А ночь-то сегодня какая! В эту ночь всякая нечисть на землю сходит и бродит между людьми, – таинственно сообщила Юлия Мирская, тщательно очищая мандарин.
– Ну, вот еще! Вы со своей Уленькой чего не выдумаете! – с набитым паштетом ртом отозвалась Игранова.
– Эта ночь великая! В эту ночь Христос родился! – певуче произнесла Соболева, повергнутая предсказанием Змейки в какое-то сладостно-печальное настроение.
– В эту ночь страхи рассказывать принято, – отозвалась Паня Старина.
– И то, девочки, давайте рассказывать… – предложила, внезапно оживляясь, королева.
– Давайте, давайте!.. А только кому начинать? – зашумели кругом девочки, большие охотницы до всяких «страхов».
– Маркиза пусть начинает! Начинай, Иннуша! Что это ты от всех удаляешься? Расскажи!.. Ты говорить хорошо умеешь, как взрослая… послышались молящие возгласы монастырок.
Серебряная головка маркизы отпрянула от окна. Всегда тихая, задумчивая девочка и теперь осталась верна себе. Отделившись незаметно от пирующих подруг и прильнув к стеклу своей оригинальной серебряной головкой, она смотрела на небо, на яркую, огнистую Вифлеемскую звезду.
– Расскажи! Расскажи, маркиза! – пристали к ней девочки.
– Да что же рассказать вам, душенька? – прозвучал ее кроткий голосок. – Лучше о княгинином спектакле да о елке поговорим. Ведь не за горами то и другое. Вот заставят нас роли учить… Поведут нас на репетиции… Наступит вечер… Елку у княгини зажгут… Гости съедутся… И мы играть будем опять то, что княгиня выдумает… Про Юдифь и Олоферна или про Агарь в пустыне…
– Нет, Юдифь и Агарь раньше были… Теперь про Руфь или про Исаака будет! – поправила ее Линсарова. – Ну, да это после узнаем… Лучше ты что-нибудь расскажи нам, Инночка.
Маркиза задумалась, поникла серебряной головкой. Что-то странное, неуловимое промелькнуло в ее лице. Морщинки набежали на ее детски серьезный лоб и придали лицу еще более недетское выражение.
– Хорошо, – произнесла она, – расскажу вам, слушайте.
И бесшумно опустилась в круг затихших подруг.
РАССКАЗ МАРКИЗЫ
Мама с маленькой Инночкой жила на самом краю города, там, где кончались последние ряды толкучки (рынка) и где тянулись большие сараи, когда-то служившие для склада дров, теперь обветшалые, старые, никому не нужные. Отец Инны был сторожем прилегавших к этим сараям провиантских магазинов. Жили они только трое: папа, мама и Инночка. Папа служил раньше в управляющих у одного помещика, но помещик разорился, и Инночкиному папе предложили место сторожа. Он его и взял. Тем охотнее взял, что давало ему это место небольшой домик на самом краю города, состоящий из двух комнат: одной наверху и одной внизу с прилегающей к ним крошечной кухней. В версте от домика шумел лес. До города было тоже с версту, если не больше. Домик стоял в глухом месте, и люди часто говорили, что надо оставить сторожу это жилье, что неспокойно в лесу, что там «пошаливают». Но сторож все не решался покинуть уютную избушку и перевезти больную жену (мать Инночки давно страдала сильным ревматизмом) в какое-нибудь сырое подвальное помещение в городе. На более удобное и гигиеничное у них не хватало средств. Маленькая семья жила тихо, мирно и уютно. У них были накоплены кой-какие деньжонки, и они не терпели нужды. Безбедно и славно жилось.
Был сочельник. На дворе гулял крещенский мороз. Папа еще засветло уехал в город за покупками и заранее предупредил жену и дочь, что заночует там, а рано утром вернется. Караулить за себя попросил своего кума. Кум взял ружье и пошел обходом. Но наступающий ли праздник соблазнил его, или просто стужа прогнала, только он к десяти часам очутился в городском трактире.
В маленьком домике и не подозревали этого.
Мама и Инночка мечтали о том, какие подарки и гостинцы, какую елочку принесет из города папа. Больная мама лежала в постели, десятилетняя Инночка приютилась, как кошечка, у нее в ногах, и обе тихонько разговаривали в маленькой комнате второго этажа. Потом мама задремала. Инночка, почувствовав голод, спустилась в кухню, находившуюся внизу. Там она открыла дверцу шкафа, чтобы утолить свой голод оставшимся от обеда пирогом.
Вдруг легкий шорох привлек ее внимание. Инночка прислушалась.
«Неужели папа из города?» – мелькнуло в ее мыслях.
В сенях раздались шаги. Кто-то шаркал ногами и тихо разговаривал. Но это не были шаги отца, не был его голос. Голоса, раздававшиеся за дверью, были хриплы и глухи. Инночка замерла на месте, вся обратившись в слух. У отца был ключ от входной двери прямо в кухню через маленькие сени, которые не замыкались, а только притворялись на ночь. Если б это был отец, он бы «просто» вложил ключ в замок и вошел. Но «тот» или «те», что шептались за дверью, как видно, не имели ключа. Значит, это были чужие. Может быть, воры, разбойники, что «шалили» в ближнем лесу. При одной мысли об этом острый, колючий холодок пробежал по телу Инночки. Кровь леденела в жилах…
Страхи ее оправдались. Отмычка заскребла о замок. Кто-то надавливал ее извне со страшной силой. Инночка с ужасом схватилась за голову. – «Сейчас они ворвутся сюда, найдут и конец!.. Смерть им обеим, ей и маме!» – Не помня себя, она кинулась было из кухни предупредить мать об опасности. Но в ту же минуту замок отскочил, и дверь с грохотом растворилась. Девочка едва успела юркнуть за огромную, широкую водяную кадку, стоявшую в углу кухни… «Они» вошли. Их было двое. У обоих было по огромному ножу в руках. Беспорядочные костюмы и отвратительно-порочные лица обличали в них вечных бродяг.
– Ну, Кнопка, ты пошарь в соседней комнате, там, видал я в окно, стоят у них сундуки с одеждой и деньгами, а я здесь пошарю. А после того поднимемся наверх, скомандовал один из бродяг хриплым голосом.
Волосы дыбом поднялись на голове Инночки.
«Наверху мама… Они убьют маму!» – мысленно прошептала Инночка.
Стон отчаяния вырвался из ее груди.
– Никак здесь есть кто-то! – шепнул первый оборванец другому, и оба насторожились.
– Ты бы пошарил по углам, дядя Семен! – произнес тот, кого звали Кнопкой.
– И то пошарю! – откликнулся его товарищ и стал обходить кухню, заглядывая во все углы и не выпуская своего огромного ножа из руки.
Сердце Инночки мучительно колотилось в груди. Она задыхалась. Судороги свели ей руки, ноги, все тело. Мысль туманилась от ужаса в голове. Вот один из бродяг приближается к ее кадке… Ей хорошо видно из темного угла, как горят его страшные глаза, как хищно направлен, выискивая что-то, его пронзительный ястребиный взгляд…
Вот он ближе… ближе… Вот наклонился над кадкой… Вот радостью осветилось свирепое лицо…
– Ага! Девчонка! Нашел-таки! – вскричал он, грубо выволакивая левою рукою из-за кадки обезумевшую от страха девочку, в то время как в правой у него заблестел нож…
В этот самый момент как безумный выскочил из соседней комнаты его товарищ, которого он называл Кнопкой.
– Дядя Семен! Спасайся! – весь бледный со страха шепнул он, прижимая к груди ворох награбленных вещей. – Идет кто-то! Сюда идет…
И в два прыжка оба разбойника скрылись за дверью.
А Инночка так и осталась стоять на месте, точно пришибленная, не веря своему чудесному избавлению от руки убийцы. В этом состоянии и нашел ее отец, вернувшийся раньше времени в ту же ночь из города. Увидел он Инночку и не узнал: из черноволосой девочка стала совсем седая…
* * *
Последние слова Инна Кесарева договорила чуть слышно и низко, низко наклонила серебряную головку. Девочки затихли разом, подавленные, потрясенные до глубины души. О веселье не было и помину. Все поняли, что не выдуманную историю рассказывала Инна и что перед ними только что развернулась тяжелая драма одной бедной, исстрадавшейся детской души.
С горячим участием и с любовью смотрели монастырки на серебряную голову маленькой маркизы…
Глава XI
Последняя соломинка. – Маскарад. – Спасена
Прошла неделя.
Крещенские морозы неистовствовали вовсю. Монастырок водили в собор, укутанных до глаз теплыми байковыми платками. В угрюмой классной топился камин. В сад не выходили. И все же по крайней, едва протоптанной боковой дорожке, ведущей к белой руине, мелькала ежедневно черная фигурка туда и обратно, тишком от бдительных взоров воспитательниц.
Уже давно положила Ксаня под руку безносой каменной Венеры письмо Виктору – письмо, в котором всячески умоляла как-нибудь спасти Лареньку от монастыря, и каждый день прибегала узнать, не взята ли записка. Но записка все еще торчала под мышкой статуи. Очевидно, Виктор еще не возвращался с Рождественских каникул. Отчаяние и страх охватили предприимчивую, смелую душу Ксани.
Что делать, если Виктор еще в Розовом? Ведь послезавтра последний срок. Послезавтра матушка увезет Лареньку. Не хочет даже оставить ее до княгининого спектакля и елки. Бедняжка Лариса не осушала слез, узнав об этом. Спасения неоткуда было ждать. Бабушка жила в Петербурге, не подозревая о том, что хотели делать с ее красавицей-внучкой. Письма Лареньки к бабушке старательно контролировались сестрою Агнией, и Лариса не могла сообщить о намерениях Манефы. А сама сестра Агния красноречиво писала бабушке, что для счастья Лареньки необходимо, чтобы она, поняв всю суетность мирской жизни, скрылась бы от ее соблазнов в монастыре. При этом Агния прибавляла от себя, что Ларенька очень довольна, что на ее долю выпадает счастье стать Христовой невестой. Читавшей эти письма Ларисиной бабушке и в голову не приходило, что ее милая внучка всей душой рвется на волю.
– Завтра последний срок! Последний день Лариной свободы! – мелькало в голове Ксани, пока она, как заяц, прыгала меж сугробов, подвигаясь к белой руине. – Если и сегодня не откликнется Виктор, пропала Ларенька!
Ей так живо представилась белокурая красавица Ларенька в иноческом одеянии, постриженная в обитель, жизнерадостная, кокетливая и вполне мирская Ларенька с ее белыми, выхоленными ручками и тщательно подвитыми тишком от Манефы кудерьками на лбу, что сердце Ксани замерло от жалости и боли за молодую девушку.
Был вечер. Снова вызвездило небо. Снова ласково глядело золотыми очами на нее, лесовичку. Ксаня торопилась. Она знала, что в угрюмой, неуютной сводчатой классной ее ждут одиннадцать девочек, помогших ей только что убежать в белую руину за письмом, и что эти одиннадцать девочек дрожат от страха за Лареньку, наконец, что у всех одиннадцати одно желание в сердцах, одна дума в голове: не вошла бы ненароком в класс мать Манефа, не хватилась бы исчезнувшей Ксани.