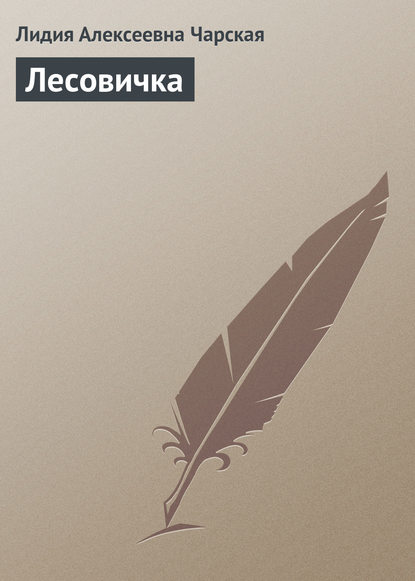По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Лесовичка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мечтательные глаза «королевы» засияли.
– Да не врет ли она, девицы? С чего бы ее отсюда, а? – грубо нарушила общее очарование Юлия Мирская.
– Я вру?! Я вру?! – так и захлебнулась Игранова – Юлька, очухайся!.. Не отошло еще после утрени… Что мне врать!.. Это вы с твоей Уленькой так заврались, что уж друг друга не понимаете… А мне что? Хочешь, письмо прочитаю?.. Папашино письмо. Папаша пишет, что отдал меня на исправление, а взамен того я будто, будто… еще хуже избаловалась… Видите ли, и до него слухи дошли, что я даже будто бы отцу дьякону к рясе чертика пришпилила… Да еще разное другое… Ну и вот! Возьмут меня отсюда, из тюрьмы нашей… Ура!
И Катя так закричала в забывчивости, что вошедший в класс учитель русского языка, Лобинов, даже вздрогнул от неожиданности.
– Девица Игранова, пощадите мои уши! – с комическим отчаянием воскликнул он, быстро и ловко вспрыгивая на кафедру.
Это был еще молодой человек, симпатичный и добрый, с умными глазами.
Единственный учитель в Манефином пансионе, пользовавшийся среди монастырок большими симпатиями, Лобинов далеко не разделял «педагогических приемов» матушки, но так как его считали лучшим «словесником» и, главное, так как его рекомендовал сам архиерей, то мать Манефа не решалась заменить его другим преподавателем, хотя и жаловалась иногда, что он не «подходит» для ее пансиона и учит тому, чего «монастыркам» и вовсе знать бы не следовало.
– В чем дело, девица Игранова? – спросил мягко Лобинов.
– Ах, Василий Николаевич, – вся вспыхнув, проговорила Катюша, виновата, не заметила, как вы вошли.
– Да чему же вы радуетесь?
– Ухожу я отсюда, Василий Николаевич… Ну, как узнала, что ухожу и все равно взятки гладки с меня, взяла да «сову» и извела.
– Какую сову?
– А Погониху!
– Анну Захаровну? И вам не стыдно, Игранова?
– Ах, не стыдно, милый Василий Николаевич. Ведь она злая, идол она, чучело… Мы ее терпеть не можем… Мучает она нас…
– Эдак и меня, может, не терпите? – лукаво усмехнулся Лобинов.
– Ах, нет! Нет! Мы вас обожаем… Вы такой умный! Добрый! Прелесть! – раздались звонкие голоса со всех скамей класса.
– Пощадите, девицы… Совсем, можно сказать, неожиданное объяснение в любви!
И добрый Лобинов сам весело рассмеялся.
Он отечески нежно любил всех смешных и наивных девочек Манефиного пансиона, охотно делил с ними их радости и невзгоды, горой стоял за своих «маленьких монашек» на учительских советах перед начальницей, и пекся, как добрый пастырь, о своем монашеском стаде.
И жаль ему было терять каждого члена этого маленького стада. Жаль было расстаться и с Катюшей Играновой. Он первый и, пожалуй, единственный угадал в отчаянной, шаловливой проказнице-девочке живую, непосредственную, богатую на способности душу.
«Да, жаль, жаль девочки, – думал он. – Украшением Манефиной школы могла она быть. Все на лету быстро схватывала, училась, когда без лени, прямо-таки блестяще. И такая прямая, независимая, бесстрашная! Жаль девочки. Но ей лучше там будет!..»
И стряхнув с себя легкий налет печали, Лобинов снова весело заговорил:
– Институтка, значит, будете… Два пальца при встречах подавать нам станете. Отменная девица! Заважничаете поди…
– Ах, что вы, Василий Николаевич!.. Никогда! Ведь я «королеву» и вас больше всего люблю в мире, – пылко вырвалось из груди Кати.
– Вот тебе раз! И еще объяснение! Ну да ладно, девицы… Будет болтать по-пустому… Урок зря проходит… А урок сегодня будет у нас особенный… Вот что, барышни: хочу я знать, как вы слогом владеете… Сочинения писать бы писали… И что одна с другой скатывала, за это я голову даю свою на отсечение. Но теперь иное сочинение будет: словесное. Я вам тему задам, а вы на нее мне турусы на колесах распишете, но не пером, а языком, с вашего позволения. Импровизацией это называется.
Девочки притихли. Это было совсем нечто новое. И занятно, и страшно.
И монастырки сдержанно зашушукались:
– Дивно как-то!
Лобинов понял общее смятение.
– Не так страшен черт, как его малюют, девицы, – выговорил он снова, и его милое лицо улыбалось с поощрительной лаской.
– Даю вам тему – «Что я более всего люблю в мире». Ну и рассказывайте мне плавно и толково про то, что любит каждая из вас… Начнем со слабейших по классу. Госпожа Косолапова, начните… Десять минут на размышление и alle![3 - Вперед (фр.).]
«Головиха» поднялась тяжело и неохотно со своего места. Ее тупое красное лицо лоснилось. Губы беспокойно двигались. Потянулись минуты одна, другая, третья, четвертая и пятая – десять минут.
Лобинов мельком бросил взгляд на часы и произнес:
– Ну, пора… Рассказывайте, барышня.
Но тяжелая и толстая «барышня» только переминалась в ответ и тяжело пыхтела носом.
– М-м-м… – мычала Машенька, – м-м-м…
– Да брось свои губы! Точно жвачку жует корова, – сердито шепнула ей ее соседка Линсарова. – Отвечай… Только злишь его!..
– Я мммм… Я, Василий Николаевич… мммм… – затянула Машенька, – я мммного чего люблю… А больше всего пирог люблю с капустой…
– Ха, ха, ха, ха! – веселым взрывом пронеслось по классу. – Отличилась Головиха наша!
– Что смеетесь? – внезапно рассердившись и краснея как рак, заворчала Машенька, – очень это вкусно, если еще с лучком да поджарить корочку…
– Ха, ха, ха, ха!
– Довольно, девица Косолапова! Я вижу, вкусы у нас разные, – засмеялся Лобинов. – Я не про еду просил говорить.
И он махнул рукой ничуть не растерявшейся Машеньке.
– Девица Старина!
Паня встала.
На ее некрасивом, но умном личике заиграло что-то ясное и живое, как солнечный луч.
– Я маму мою люблю, Василий Николаевич, – прошептала она чуть слышно. – Так люблю маму мою!.. Бедная у меня мама. Она прачка, день и ночь стирает, на морозе полощет белье… чужое белье… За шестьдесят копеек в день мозолит себе руки, трудит грудь и шею. Придет усталая вся, разбитая домой: – «Вот, Панюша, говорит, гляди, деточка, как работает мама… Честно, хорошо работает день-деньской для дочки своей. Хочу дочку в люди вывести, Панюша, хочу ей образование дать!» А сама плачет, и я плачу и заскорузлые руки ее целую… И хочется мне труд ее разделить и облегчить ее участь… А разве я смогу? Маленькая я еще… А раз прихварывала мама. Работы не было. И денег не было тоже… Позвали татарина, продали кое-что из платья и белья, купили хлеба. На неделю хватило, потом голод опять. Последний кусок мама мне отдала… А сама отвернулась, чтобы мне не показать, что голодна она, милая. Отвернулась, а сама говорит: – «Кушай, Панюшка, кушай. Я не хочу есть»… Но мне кусок поперек горла стал. Не смогла притронуться к нему, бросилась к ней… Целовала ее ноги, как святой… И тут же слово дала, ради нее, мамы, учиться так, чтобы ей помощью и подмогой стать впоследствии… Чудная, добрая, святая она у меня! Ее и люблю больше всего в мире. Да и как не любить? – трогательным вопросом закончила Паня свой рассказ.
– Да, как не любить-то? – отозвался ей в тон Лобинов, и какою-то мягкою, светлою влагой наполнились его добрые глаза.
И не одни его глаза наполнились слезами.