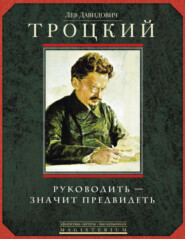По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Проблемы культуры. Культура старого мира
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Весь трагизм положения Крамеров в том и состоит, что, презирая буржуазию, они в то же время должны подчиняться требованиям ее рынка. Пошлое безыдейное мещанство косвенно и прямо навязывает им свои вкусы, и от подчинения мещанству им нельзя уйти, ибо исторические судьбы туго притянули этих жрецов «чистого искусства» к буржуазии мертвой петлей экономической зависимости.
Слушайте, что говорит Лохман Михалине при виде группы кутящих бонвиванов: «И хоть бы ты полетела на крыльях утренней зари, ты не уйдешь от людей этого сорта… Боже! Как хорошо все это началось! А теперь толчешь воду для этих господ. Нет ни одной вещи, о которой бы мы думали так же, как они. Все неприкрытое, чистое, свергается в грязь. Самые скверные тряпки, самая грязная оболочка, самые жалкие лохмотья объявлены святыми. А наш брат должен молчать и лезть вон из кожи для этой сволочи!».
Во что же в таком случае разрешается искусство-религия, свободное от противоестественной связи с «толпой»? В фикцию, в иллюзию, в самообман.
Как бумажный змей, оно может подыматься до таких высот, с которых все земные дела утопают в одном сером безразличии, но, даже витая в царстве облаков, это бедное «свободное» искусство всегда остается привязанным к крепкой бечевке, «земной» конец которой туго зажат в мещанском кулаке.
Но нас ожидает еще одно любопытное соображение г. Струве. "Мы представляем себе, – говорит он, – что Гауптман в Германии бог весть как популярен, а между тем его новая пьеса провалилась на первом представлении, а на втором небольшой «Deutsches Theater» был даже не полон. Гауптман, очевидно, становится (заметьте – становится! Л. Т.) неинтересен здешней публике. Я думаю, что это плохой знак для публики, а не для Гауптмана, – глубокомысленно замечает критик и поясняет: эта почтенная публика, по-видимому, слишком тупа для подобных вещей". (Курсив мой. Л. Т.)
Нельзя сказать, чтобы объяснение неуспеха пьесы тупостью публики отличалось большой критической остротой: в этом объяснении скорее видна выходка уязвленного самолюбия самого г. Струве: современная российская «публика», мало, по-видимому, склонная следовать за г. Струве, потерявшим руль и мечущимся из стороны в сторону от Маркса – к Канту[95 - См. прим. 76 к этому тому. Ред.], от Канта – к Лассалю и Фихте, от Фихте – к Ницше, тоже, конечно, окажется, с такой точки зрения, повинной в тупости. Но этот упрощенный критический прием, столь лестный для уязвленных авторских самолюбий, вполне бесплоден в смысле уяснения судеб литературных произведений.
Нет, не тупость публики причина неуспеха драмы г. Гауптмана, равно как и новых слов г. Струве.
У публики есть свои резоны: почтенное мещанство, естественно, не питает особенной нежности к высокоталантливому драматическому писателю, который в своих «Ткачах» дал такую потрясающую картину капиталистического накопления 40-х годов истекшего столетия, картину, не потерявшую своего жизненного значения еще и для сегодняшнего дня, а публика из «неудовлетворенных» общественных групп не может и не должна простить Гауптману, что он сошел с того славного пути, на который некогда вступил названной пьесой.
"У публики здоровые ведь зубы,
И в простоте душевной разгрызает
Она крепчайшие орехи! Да,
Благослови, господь, людскую глупость.
Смела она! Ее не устрашишь
Словами громкими; считает горы
За бугорки, и так искусно глупо
Песчинку на пути кладет, что умник
Вниз кубарем летит!.."
(Т. Гедберг, «Гергард Грим». Изд-во «Начало», 1899, III, 182.)
Когда Гауптман создавал своих «Ткачей», его сердце сочувственно билось в такт лучшим чувствам трудовой массы. Потом он, по-видимому, разочаровался в этой массе, повернулся к ней спиной и стал углубляться в моменты душевной драмы героя, непонятного толпою («Потонувший колокол», «Михаил Крамер»), и пришел в лице старого Крамера к убеждению, что «истинный художник всегда бывает отшельником».
Г-н Струве в начале своей еще недолгой литературной карьеры искал поля приложения своей писательской деятельности приблизительно там же, где и Гауптман, но крайне ускоренным темпом пришел к тому открытию, что даже «неудовлетворенные» заражены «культом довольства», «культурной буржуазностью».
Гауптман ищет душевного отдыха в «искусстве-религии», требующем от поэта полного отшельничества. Г-н Струве нашел успокоение, может быть, временное, в нагорных сферах идеалистической метафизики.
На этом, однако, сходство кончается. Гауптман – исключительная художественная сила, и переживаемая им внутренняя драма, получающая в его произведениях художественное воплощение, способна временами приковать к себе внимание читателя[96 - Так, даже в рассматриваемой драме, в общем неудачной, имеются высоко прекрасные места: например, объяснение отца с сыном в конце второго действия.].
Мы не станем искать поприща для борьбы с «культурной буржуазностью» ни в сфере искусства, отрешившегося от действительности, как Гауптман, ни в области метафизики трансцендентного, где разочарованная душа г. Струве нашла себе временное успокоение в обществе нескольких убеленных сединами абсолютов. Мы найдем это поприще внутри самого общества, а оружием мы станем запасаться не в метафизических арсеналах.
«Восточное Обозрение», NN 99, 102, 5, 9 мая 1901 г.
Л. Троцкий. ОБ ИБСЕНЕ
Говорят, что в глазах своих лакеев великие люди не имеют никакого обаяния. Но зато, с другой стороны, личное знакомство с великими людьми превращало и превращает в лакеев, как о том можно нередко судить на основании относящихся сюда документов.
Норвежский писатель Джон Паульсон[128 - Паульсен, Джон (род. в 1851 г.) – норвежский писатель, автор многочисленных, но не имевших успеха романов. Паульсен познакомился с Ибсеном в Мюнхене в 1876 г. и получил через его посредство от стортинга (норвежский парламент) литературную субсидию, давшую ему возможность прожить некоторое время в Риме, Париже и Берлине.], рассказывающий в своих «Воспоминаниях»[97 - Выдержки из этих «Воспоминаний», напечатанные в своих частях, относящихся к Генриху Ибсену, в III книге «Мир Божий» за 1901 год, и подали нам повод для настоящего «письма».] о своих отношениях к Генриху Ибсену, не составляет исключения из этого обидного правила. Так, например, он с глубоким сочувствием приводит слова своего друга, норвежского художника, сказанные после посещения им Ибсена: «Да, видишь ли, в сущности он ничего не говорил, но его манера, как он набивал мне трубку, его взгляд, когда он подавал мне ее, прямо-таки растрогали меня!». Высшую степень душевного лакейства трудно себе представить!
В общем «Воспоминания» Паульсона дают крайне мало материала для выяснения своеобразной физиономии знаменитого писателя. Сообщаемые Паульсоном факты совершенно незначительны и сдобрены в небольших дозах самодельной философией и в громадных долях душевным лакейством перед «великим соотечественником». Но памятуя, что la plus jolie fille de France ne peut donner plus que ce qu'elle a (самая красивая девушка Франции не может дать больше того, что имеет), постараемся воспользоваться тем малым, что дает Паульсон, в связи с тем многим, что дают сочинения самого Ибсена.
«Когда Ибсен, этот великий скептик, потрясший все наши старые идеалы, – за бутафорским пафосом у Паульсона дело не стоит! – высказывал в разговоре одну дерзновенную мысль за другой, г-жа Ли (жена известного норвежского писателя), воспитанная в старой верующей чиновничьей семье, иногда возражала ему, ссылаясь на св. писание». Она видимо считала Ибсена «революционером». Сам Паульсон находит, что революционером Ибсен являлся «лишь в беседах, да в своих произведениях, а никак не в ежедневном своем быту».
Точно ли Ибсен – «революционер»?
Почтенная дама в своем взгляде на Ибсена исходила из сопоставления его взглядов со св. писанием; Паульсон противопоставил «дерзновенные мысли» Ибсена убогим кодексам собственной морали и философии; мы же попытаемся свести «революционные» идеи Ибсена на очную ставку с объективными социально-историческими условиями. Ответ на поставленный вопрос выяснится сам собою.
В 1870 г. Ибсен писал Георгу Брандесу: «Все, чем мы ныне питаемся, лишь крохи со стола революции прошлого столетия, и пища эта достаточно-таки пережевана и пережевана. Понятия нуждаются в новом содержании и в новом истолковании. Понятия „свобода, равенство и братство“ давно уже перестали быть тем, чем были во времена покойной гильотины. Вот чего не хотят понять политические революционеры, и вот почему я их ненавижу. Эти господа желают только специальных переворотов, переворотов во внешнем. Но все это пустяки. Переворот человеческого духа – вот в чем дело!». Пока что революционного тут мало…
Паульсон тоже понимает, что хотя «свобода для Ибсена то же, что воздух, но понимает он ее не столько в смысле гражданской, сколько личной. Что толку, в самом деле, – прибавляет Паульсон уже от собственного разума, – обладать правом голоса, если не выработать себе свободы личности?».
Свобода личности! Переворот человеческого духа!.. Но всякие ли общественные условия позволяют выработать «свободу личности», и точно ли «переворот человеческого духа» может быть совершен независимо от внешних условий? На эти вопросы Ибсен не умел ответить: более того, он даже не умел их поставить.
Общественные преобразования Ибсен не ставит почти ни во что. Партии, эти великие культурные силы современности, в союзе с которыми только и можно воздействовать в желательном направлении на общество, Ибсен третирует с презрением одиноко стоящего умственного аристократа. «Партийные программы, – говорит д-р Штокман, – убивают всякую жизнеспособную истину», и еще сильнее: «партия – это точно насос, которым у людей постепенно выкачивают рассудок и совесть!» («Враг народа»). Ибсен исходит из индивидуальности и к ней возвращается. В пределах индивидуальной души он разрешает или пытается разрешить все социальные проблемы. Он расширяет и углубляет эту эластичную индивидуальную душу до сверхчеловеческих пределов («Бранд»), не задевая при этом даже локтем общественной обстановки. В лице Росмера Ибсен хочет «сделать всех людей в стране аристократами духа…, освободив их дух и очистив их волю» (как это определенно!), но и в это дело Росмер теряет веру, придя к убеждению, что «люди не могут быть облагораживаемыми извне» («Росмерсхольм»).
В личной жизни сам Ибсен, этот «дерзновенный революционер», этот «великий минус», как называют его соотечественники, покорно склоняется пред условиями, действующими извне: с педантической тщательностью подчиняется он всем условностям лицемерно-благопристойного обихода буржуазной среды. Лишь в созданиях своего духа он стоит «высоко и свободно» (да и то не настолько, как это представляется Паульсону и самому Ибсену!), но «ах… не таков я в обыденной жизни», жалуется он на себя с горечью устами строителя Сольнеса. Как и этот строитель, он «не решается… не может подняться так высоко, как он сам строит»[98 - Не лишено своеобразного значения для характеристики личности Ибсена то обстоятельство, что, покидая с негодованием родину для добровольного изгнания, Ибсен потребовал себе от сейма и получил «литературную пенсию». Трудно, оказывается, усилиями «изнутри», одним «переворотом духа» освободить себя «извне»… хотя бы лишь от унизительной для того же «духа» денежной зависимости!].
И в этом – слабость не его собственной индивидуальности, а его индивидуалистической проповеди, его внесоциальной морали или, если хотите, имморали. И если бы только в этой проповеди состояло все значение Ибсена, то – можно смело сказать это – он не имел бы никакого значения.
Ибсен – творец великих, новых слов и дерзновенных идей, Ибсен – пророк обновленного человечества, Ибсен – духовный вождь будущего… и как его там еще величают, этот Ибсен не имеет сотой, тысячной доли того значения, как Ибсен – великий живописатель мещанской среды. Ибсен – художник-отрицатель, «великий минус», стоит бесконечно высоко над Ибсеном – символистом-пророком и вождем. И по натуре своей Ибсен не годится для этой второй роли. «Не могу припомнить случая, – говорит Паульсон, – чтобы у Ибсена когда-либо вырывались восторженные выражения, пылкие слова, которые указывали бы на то, что в его душевной жизни играет особенную роль чувство». Нет, это не вождь! Если освободить «новые слова» Ибсена от туманной, столь подкупающей многих[99 - «Я был хорошо знаком с его произведениями, – говорит Паульсон, – читал и перечитывал их много раз, но не всегда мог проникнуть в их сокровенные глубины… Сколько воскресений просидел я… ломая голову над каким-нибудь темным местом»… Каким диким представляется нам отношение к художественному произведению, как к ребусу или к апокалиптическим откровениям!] символической оболочки, то эти новые слова в большинстве случаев утратят и свою новизну и свою привлекательность. И немудрено. В настоящее время, когда человеческая мысль обладает таким колоссальным, неисчерпаемым в своем разнообразии наследственным и благоприобретенным достоянием, серьезное ценное новое слово можно сказать, лишь став на плечи своих великих предшественников. Между тем Ибсен, по словам Паульсона, «читал крайне мало. С новейшими произведениями изящной словесности и философской мысли он знакомился больше из бесед с другими, нежели путем личного изучения». Гениальный самоучка, без систематического образования, без цельного миросозерцания, он с неуместным пренебрежением относился к плодам чужой мысли.
Сродный ему по духу самоучка-строитель, герой цитированной уже драмы, имеющей несомненное автобиографическое значение, спрашивает Гильду, читает ли она. Гильда. Нет. Никогда… больше. Все равно смысла не вижу. Сольнес. Точь-в-точь, как и я («Строитель Сольнес»). Это пренебрежительное отношение к книгам, а особливо незнакомство с ними прошло, повторяем, далеко не бесследно для творчества Ибсена: он не дал многого, что мог бы дать. Но, простив ему недоимки, поговорим о том, что он дал, посмотрим, над каким материалом он оперировал, – а дал он много, работал над материалом, заслуживающим самого пристального внимания.
Каков тот общественный фон, на котором разыгрываются обыкновенно личные драмы героев Ибсена?
Это мирная, неподвижная, застывшая в одних и тех же формах жизнь небольших норвежских провинциальных городов, населенных средней руки мещанством, таким нравственным и благопристойным, таким добропорядочным и религиозным…
О! горький осадок оставила эта уравновешенная провинциальная благопристойность в душе великого драматурга, и вы вполне понимаете его, когда в ответ на вырвавшееся у Паульсона при виде Мюнхена восклицание: «Какой огромный город!», Ибсен с горечью замечает: «В меньшем нельзя и жить!».
Там, в этих больших торгово-промышленных и умственных центрах, все-таки больше простора и воздуха, меньше условностей, а главное, меньше этой характерной для мелкобуржуазных городов нравственности и благопристойности, удушливой, как копоть плохой лампы, липкой и клейкой, как густой сахарный сироп, как воздух, проникающей чрез все поры и пропитывающей все отношения – семейные, родственные, любовные, дружеские…
До сердцевины изъеденное рутиной, вековой косностью, провинциальное мещанство пугается всяких нововведений: какая-нибудь новая железная дорога заставляет его с опасением взирать на будущее: ведь до железной дороги «здесь было так спокойно и мирно!» – жалуется г-жа Берник («Столпы общества»). Если так обстоит дело с железной дорогой, то с новыми идеями и совсем плохо. Да и для чего они обществу? «Ему вполне достаточно хороших старых, которые уже всеми признаны» («Враг народа»).
Не терпя новизны, мещанство не выносит также никакой оригинальности, независимости, даже простой своеобразности. Оно беспощадно давит малейшие проявления этих качеств. «У тебя страсть, – поучает оно д-ра Штокмана устами своего бургомистра, – всегда прокладывать себе свой путь, а это в благоустроенном обществе мало допустимо. Отдельная личность должна подчиняться своему целому»…
В то время как промышленные феодалы, под пятой которых стоят десятки тысяч людей, владыки и законодатели биржи, великие «потрясатели» всемирного рынка, словом, всемогущие диктаторы современного торгово-промышленного мира слишком отчетливо сознают свою силу, чтобы маскировать свое действительное отношение к жизни и людям, – средняя буржуазия, наоборот, не выносит оголенности этих отношений, не в силах смотреть открыто в глаза делу рук своих: ее пугает трение составных частей ею же приводимого в движение буржуазного механизма, и она пытается смягчить это трение, употребляя для смазки затхлое масло лицемерного сентиментализма. В безнравственном большом свете – «какую цену имеет там человеческая жизнь? – вопрошает адъюнкт Рерлунд, эта воплощенная совесть местного общества: – там с человеческими жизнями обращаются, как с капиталами. Но ведь мы, смею думать, стоим на совершенно иной нравственной точке зрения» («Столпы общества»). Еще бы!..
Стоя на пограничной меже между высшими классами общества и его низами, среднее и мелкое мещанство не прочь опереться на эти низы, говорить от их имени, – но все это делается, разумеется, не всерьез.
– Ну, а политическое воспитание народа путем самоуправления – об этом вы не подумали? – спрашивает редактор Гауштад типографа Аслаксена.
– Когда человек достиг известного благосостояния и должен его оберегать, то он не может обо всем думать, г-н Гауштад, – с излишней откровенностью отвечает умудренный в «школе жизни» типограф («Враг народа»).
Вообще у Аслаксена можно многому научиться. Его девиз: «умеренность – первая гражданская добродетель». Его индивидуальность совершенно утопает в социальном типе; он силен силою «сплоченного большинства», он говорит не иначе как от имени этого сплоченного большинства, от имени «мелких собственников», от имени домовладельцев…
Те лицемерно-либерально-умеренные принципы, которые руководят Аслаксеном, пропитывают все мещанство. Это они заставляют мещанское общество – при всей его ненависти ко всему новому, оригинальному и «неблагопристойному» – старательно избегать оголенных мер репрессий; как-никак мымрецовский[100 - Глеб Успенский. «Будка». Собр. соч., т. I, стр. 727. Изд Павленкова. Ред.] принцип «тащить и не пущать» вычеркнут из мещанского обихода. Мещанство действует более косвенно, хотя не менее действительно. В другой политической обстановке д-р Штокман, в качестве «врага общества», подвергся бы насильственной изоляции. Культурное мещанство поступает иначе. Оно бойкотирует своего врага. Оно увольняет его от должности (наниматель и нанимаемый «свободны» в своих отношениях), оно отказывает ему от квартиры, лишает его дочь уроков, высылает его мальчиков из школы, наконец, оставляет без должности человека, случайно уступившего Штокману для собрания свою квартиру. «Без кнутика, без прутика» оно верно достигает своей цели. Оно изолирует своего врага почти так же верно, как если бы выслало его в какие-нибудь «отдаленные места».
Если буржуа космополитического типа свободомыслящ, по крайней мере был таким еще недавно, то провинциальный мещанин, наоборот, всегда находил необходимым стоять на защите религии, надеясь в то же время на защиту с ее стороны. Пастор занимает во многих драмах Ибсена не последнее место. Готовясь совершить гнусный поступок – отпустить своего «друга» на судне, которому грозит неминуемая гибель, лишь бы обеспечить себя от возможных разоблачений, – консул Берник ищет утешения себе в… религии. И, надо сказать, находит. Адъюнкт Рерлунд говорит ему – разумеется, от имени религии: «Дорогой мой консул, вы почти что слишком совестливы. Я полагаю, что если вы положитесь на волю провидения»… («Столпы»).
Все разнообразные и нередко противоречащие друг другу «моменты» мещанского житья удерживаются в относительном равновесии при помощи испытанного цементирующего «идеологического» материала – лицемерия. Послушайте, что говорит человек, променявший любимую девушку на приданое, без жалости порвавший при этом с несчастной певицей, брошенной потом мужем и умершей в нищете, поддерживающий клевету на друга для поправления своих финансовых дел, готовый утопить этого друга для упрочения собственного благополучия, словом, знакомый уже нам «столп общества» консул Берник: «О, ведь семья – основа общества. Уютный, домашний очаг, достойные и верные друзья, небольшой замкнутый кружок, в который не вторгаются никакие злокозненные элементы»… Главное, конечно, чтоб не было «злокозненных элементов».
Что представляет собою этот священный мещанский «семейный дом», достаточно известно. Один писатель остроумно влагает в уста мещанина такие слова: «Мой дом – моя крепость, а я: оной крепости комендант!» – Как часто приходилось, по словам Паульсона, самому Ибсену «иметь дело – и в книгах и в проповедях – со строгими словами Павла, гласящими, что муж должен быть главой и господином, а жена его всепокорнейшей служанкой». Даже столь исключительный человек, как д-р Штокман, этот одиноко стоящий борец с пошлостью мещанского большинства, говорит своей жене такую типично-мещанскую пошлость: «Что за глупости, Катерина! Пойди-ка лучше, займись своим хозяйством, а мне предоставь заботу об общественных нуждах».