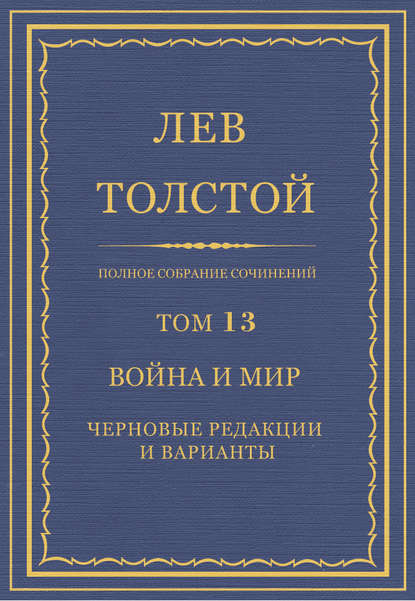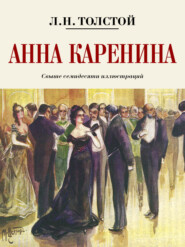По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Полное собрание сочинений. Том 13. Война и мир. Черновые редакции и варианты
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2014
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пожалуйте, налево по лестнице, через галлерею, – сказал швейцар.
Княгине не нужно было видеть молодого Безухова, она сказала это только для того, чтоб найти предлог проникнуть к умирающему.
Молодой Безухов лежал на диване, положив ноги на мозаиковый стол, в дорожном расстегнутом платье и с сигарой во рту. Увидав гостью, он сконфузился и рассердился в одно и то же время.
– Извините, что вам угодно? Здесь я, а не мой отец. Василий, швейцар! – заговорил он, неловко вставая и запахиваясь. Борису было неловко и неприятно за свою мать.
– Вы не узнаете меня, Аркадий? – сказала княгиня, спокойно и самоуверенно, улыбаясь своей всегда грустной улыбкой, – я бы вас везде узнала, хотя вы очень потолстели. Vous avez pris de l'?ge.[689 - [Вы возмужали.]]
Аркадий торопливо нагнулся к своему столу, отыскивая очки, надел их и тотчас же размахнул руками, закричал:
– А, милая княгиня, – и не переставая начал шевелить своими толстыми губами, как будто рот у него был полон каши, усаживая княгиню и узнавая Бориса, которого он не видал шесть лет.
Он поцеловал руку княгини, обнял Бориса с добродушием молодости и веселости, заменявшим такт в его медвежьей натуре, но ему всё еще видимо было совестно за княгиню и ее сына, посещение которых он не мог объяснить себе.
Между людьми всегда чувствуется неловкость, когда у одного из них есть замысел, в котором неудобно признаться. И неловкость эта чувствуется преимущественно теми, которые не имеют замысла и которым совестно за другого.
Молодому Безухому было досадно тем более, что он не мог равнодушно сносить неловкое положение. Он слишком тонко чувствовал и слишком был для того добр и мягок. Он только два часа, как приехал из Швейцарии, где он жил уже второй год без всякой цели и занятия, а так – ничего дурного не было в этой жизни и никто не мешал ему лежать, задравши ноги, гулять, ходить на охоту, играть в шахматы с женевским пастором, спорить с ним и читать всякую книгу, какая ни попадалась ему под руку, – всё равно с конца или с середины. Он приехал и с досадой (опять с досадой, но не больше) думал о той скучной комедии, для которой выписали его и которую предстояло ему играть при смерти отца, не любимого и не любившего. Теперь начиналась эта комедия с condolеance'ами[690 - [сочувствиями]] московских барынь. Он знал княгиню за хорошую женщину, она ему была симпатична, особенно ее мальчик, но зачем она мешала ему – мешала ничего не делать.
Княгиня между тем чувствовала гордость, исполняя свою тяжелую для нее обязанность. Ежели бы ей у умирающего пришлось отрезать палец для того, чтобы, вместе с пальцем, получить состояние, обеспечивающее сына, она ни на минуту бы не задумалась.
– В каких грустных условиях мы свиделись с вами, – сказала она грустно. – Как здоровье вашего отца нынче? Есть ли улучшение? Я бы давно уже была у вас, но я вчера только сама из Петербурга.
– Вы желаете видеть его? Я пошлю спросить.
– Да, мне бы хотелось. Что он исполнил обязанности христианина?
– Да, кажется, впрочем не знаю… я только приехал…
Княгиня пошла к больному. Аркадий задрал опять ноги на стол.
– Ах, как[691 - Зачеркнуто: я рад вас видеть так] скучно, как скучно, как скучно здесь, скучно…
– Я думаю, – отвечал Борис холодно, ему оскорбительно казалось положение матери, видимо бывшей в тягость. Тем более, что женщина, приходившая к молодому князю, о чем то шопотом говорила с ним, прежде чем допустили княгиню.
– Не болезнь и смерть скучно. Через нее все пройдем, – продолжал Аркадий, потирая всей рукой глаза под очками, – а вся эта комедия. Я так отвык. Ну умирает человек, оставить бы его в покое. Нет, скачут из Петербурга, из Москвы, чтобы его мучить. И всё за то, что[692 - Зачеркнуто: у него деньги] он богат.
– Не все же едут для денег, богатства, – вдруг вспыхнув, почти закричал, для самого себя неожиданно, Борис. – Уж верно не моя мать… Это нечестно говорить…[693 - Поперек текста: Б[орис] хитрит, что оскорбляется.]
Аркадий вскочил с дивана, покраснел больше Бориса и ухватил его за руку снизу с свойственной ему грубой, решительной, но добродушной манерой.
– Что вы, Борис? Вы с ума сошли. Мог ли я думать о вас?.. Тут столько народа я видел в эти два часа. Вы другое дело, вы родня.
– Родня или нет, мне всё равно, и я пользуюсь случаем сказать вам, что мы бедны, но никогда ни одного рубля я не возьму от вас и от вашего отца. Прощайте. Ежели maman зайдет, скажите, что я уехал. – Надобно было видеть жалость, нежность и любовь, выступившие мгновенно в глазах и на всех чертах испуганного, растерянного Аркадия, чтобы понять, как не мог не успокоиться Борис, не устыдиться своей выходки и не пожалеть в свою очередь.
– Ах, милый мой, бедный… ради бога… простите, не думайте. Ах, как мне жалко… послушайте… – говорил толстый человек с слезами на глазах.
Вспышка молодости прошла так же неожиданно, как и пришла. Ему стало совестно и он полюбил Аркадия.
– Послушайте, – продолжал Аркадий. – Я вас знал мальчиком и любил вас, я старше много, мне двадцать три, вам, должно быть, шестнадцать, но я не знаю отчего – оттого ли, что вот это случилось, я знаю, что мы будем друзьями. Для меня слишком тяжелое время, на меня нельзя сердиться. Хотите, и тогда вы увидите, что я не мог хотеть оскорбить кого-нибудь, тем более вас, хотите? Хотите? – повторил он, – вы меня узнаете.
Борис улыбался красный еще, но с гордостью чувствуя, как утихала в нем благородная буря.
– Может быть я ошибся, наверное я ошибся, но я горд, вы простите меня. Я знаю, что и вам тяжело.
– Нет, хотите дружбу мою. Не на шутку. А?
Борис подал ему руку. Аркадий притянул его к себе и поцеловал.
– Вот так. Что мне за дело до других, старые люди – другие люди, у вас всё впереди и у меня, может быть, – и он начал говорить совсем иначе, чем прежде, с добродушным оживлением, доходящим до красноречия. – Видите ли, в жизни есть хорошего только спокойствие, книга и дружба. Дружба – не любовь с чувственностью, а чистое, честное сближение без другой цели, как счастье того и другого. И дружба может быть только тогда, когда оба молоды, всё впереди и оба чисты. Ты, верно, чист, я – почти.
– Какой вы странной! – только сказал Борис. – Вы мне были милы с первой минуты, я может быть от этого вспылил так. С другим я бы не сделал этого. Я тоже верю в дружбу; но я моложе вас, и я не знаю, будем ли мы друзьями. Я прошу времени сойтись, узнать друг друга.
– Хорошо, хорошо, «ты» всё таки можно говорить, я так люблю. Ну, ты слушай. Узнавай меня как хочешь, будем видеться часто. Оставайся обедать.
– Нельзя. Я у Простых.
– У каких? А, милый, ты верно влюблен? Да? – Ну это всё расскажи. Расскажи, какие твои планы, какие твои убеждения. Веришь ли ты? – Планы Бориса были служба, война. Убеждения были убеждения матери. Аркадий улыбнулся и стал рассказывать свои убеждения. Он был пропитан новыми идеями того времени, он был и мистик, и либерал, крайний либерал 1794 года, и поклонник Бонапарта. Борис, впервой слышавший всё это, восхищался и входил в новой мир.
В то время, как такая молодость, и надежда, и бессмыслица, и счастье жило в этой комнате между двумя юношами, княгиня в комнате умирающего делала то самое, что так горячо и гордо отвергал ее сын.
6.
Княгиня вошла в картинную галлерею. Тут сидели доктора и говорили между собой по французски, не находя нужным ломать язык по латыни, которую они все перезабыли. Петербургский говорил о новостях Петербурга, о известиях из Эрфурта, о последнем бале. Metivier слушал. Другие слушали. Один московской даже и слушать не мог. Он был погружен в соображения, сколько ему дадут за консультацию у такого богача. Они всё решили и знали, что у больного водяная в груди, и что он жить не может более нескольких часов. Однако, они прописали многое и при Позоровском много говорили по латыни и спорили. Позоровской вышел к княгине.
– Вот мы с вами опять встретились. Ну, что наш больной?
Позоровской сделал только знак головой и губами, знак, означавший самую плохую надежду.
– Я очень любила его и он любил моего Борю – он ему крестник, я бы желала его видеть.
Позоровской, светский человек, дипломат, занимавший одну из высших должностей в Петербурге и сам приехавший за тем же, за чем и княгиня, тотчас понял.
– Не были бы тяжелы ему такие разговоры теперь, – сказал он. – Подождем до вечера, доктора обещают кризис.[694 - Зачеркнуто: Я не могу]
– Нельзя ждать, любезный князь, женщина нужнее бывает в эти минуты, чем кто бы то ни было. Исполнил ли он последний долг?[695 - Зачеркнуто: Мне надо поговорить] Я приготовлю его.
Безухой[696 - Зач.: был екатерининской вельможа] лежал в кабинете в волтеровском кресле. Около него стояли табакерки с портретами и лекарства, он тяжело дышал и испуганно оглядывался. Он боялся не смерти, но того, что найдет приговор смерти в глазах других. В комнате была бывшая гувернантка его дочери, француженка, исполнявшая уже давно в доме неопределенную роль лектрисы.
– Не хочу я пить этих гадостей. Лорен (петербургский доктор) точно так же ничего не знает, как и они, – говорил он ей. Ее ловкие, белые руки так же тихо и ловко заткнули склянку, как и открыли, и она отошла.
– Как угодно, князь. Не хотите ли чего?
– Одного хочу, – прохрипел он, – чтобы никого ко мне не пускали – особенно этого пролаза кнезь Василья. И зачем он приехал?
В это время дверь тихо отворилась и показался чёрный кружевной чепец и грустное лицо княгини.
– Можно? – Больной подернулся.
Княгине не нужно было видеть молодого Безухова, она сказала это только для того, чтоб найти предлог проникнуть к умирающему.
Молодой Безухов лежал на диване, положив ноги на мозаиковый стол, в дорожном расстегнутом платье и с сигарой во рту. Увидав гостью, он сконфузился и рассердился в одно и то же время.
– Извините, что вам угодно? Здесь я, а не мой отец. Василий, швейцар! – заговорил он, неловко вставая и запахиваясь. Борису было неловко и неприятно за свою мать.
– Вы не узнаете меня, Аркадий? – сказала княгиня, спокойно и самоуверенно, улыбаясь своей всегда грустной улыбкой, – я бы вас везде узнала, хотя вы очень потолстели. Vous avez pris de l'?ge.[689 - [Вы возмужали.]]
Аркадий торопливо нагнулся к своему столу, отыскивая очки, надел их и тотчас же размахнул руками, закричал:
– А, милая княгиня, – и не переставая начал шевелить своими толстыми губами, как будто рот у него был полон каши, усаживая княгиню и узнавая Бориса, которого он не видал шесть лет.
Он поцеловал руку княгини, обнял Бориса с добродушием молодости и веселости, заменявшим такт в его медвежьей натуре, но ему всё еще видимо было совестно за княгиню и ее сына, посещение которых он не мог объяснить себе.
Между людьми всегда чувствуется неловкость, когда у одного из них есть замысел, в котором неудобно признаться. И неловкость эта чувствуется преимущественно теми, которые не имеют замысла и которым совестно за другого.
Молодому Безухому было досадно тем более, что он не мог равнодушно сносить неловкое положение. Он слишком тонко чувствовал и слишком был для того добр и мягок. Он только два часа, как приехал из Швейцарии, где он жил уже второй год без всякой цели и занятия, а так – ничего дурного не было в этой жизни и никто не мешал ему лежать, задравши ноги, гулять, ходить на охоту, играть в шахматы с женевским пастором, спорить с ним и читать всякую книгу, какая ни попадалась ему под руку, – всё равно с конца или с середины. Он приехал и с досадой (опять с досадой, но не больше) думал о той скучной комедии, для которой выписали его и которую предстояло ему играть при смерти отца, не любимого и не любившего. Теперь начиналась эта комедия с condolеance'ами[690 - [сочувствиями]] московских барынь. Он знал княгиню за хорошую женщину, она ему была симпатична, особенно ее мальчик, но зачем она мешала ему – мешала ничего не делать.
Княгиня между тем чувствовала гордость, исполняя свою тяжелую для нее обязанность. Ежели бы ей у умирающего пришлось отрезать палец для того, чтобы, вместе с пальцем, получить состояние, обеспечивающее сына, она ни на минуту бы не задумалась.
– В каких грустных условиях мы свиделись с вами, – сказала она грустно. – Как здоровье вашего отца нынче? Есть ли улучшение? Я бы давно уже была у вас, но я вчера только сама из Петербурга.
– Вы желаете видеть его? Я пошлю спросить.
– Да, мне бы хотелось. Что он исполнил обязанности христианина?
– Да, кажется, впрочем не знаю… я только приехал…
Княгиня пошла к больному. Аркадий задрал опять ноги на стол.
– Ах, как[691 - Зачеркнуто: я рад вас видеть так] скучно, как скучно, как скучно здесь, скучно…
– Я думаю, – отвечал Борис холодно, ему оскорбительно казалось положение матери, видимо бывшей в тягость. Тем более, что женщина, приходившая к молодому князю, о чем то шопотом говорила с ним, прежде чем допустили княгиню.
– Не болезнь и смерть скучно. Через нее все пройдем, – продолжал Аркадий, потирая всей рукой глаза под очками, – а вся эта комедия. Я так отвык. Ну умирает человек, оставить бы его в покое. Нет, скачут из Петербурга, из Москвы, чтобы его мучить. И всё за то, что[692 - Зачеркнуто: у него деньги] он богат.
– Не все же едут для денег, богатства, – вдруг вспыхнув, почти закричал, для самого себя неожиданно, Борис. – Уж верно не моя мать… Это нечестно говорить…[693 - Поперек текста: Б[орис] хитрит, что оскорбляется.]
Аркадий вскочил с дивана, покраснел больше Бориса и ухватил его за руку снизу с свойственной ему грубой, решительной, но добродушной манерой.
– Что вы, Борис? Вы с ума сошли. Мог ли я думать о вас?.. Тут столько народа я видел в эти два часа. Вы другое дело, вы родня.
– Родня или нет, мне всё равно, и я пользуюсь случаем сказать вам, что мы бедны, но никогда ни одного рубля я не возьму от вас и от вашего отца. Прощайте. Ежели maman зайдет, скажите, что я уехал. – Надобно было видеть жалость, нежность и любовь, выступившие мгновенно в глазах и на всех чертах испуганного, растерянного Аркадия, чтобы понять, как не мог не успокоиться Борис, не устыдиться своей выходки и не пожалеть в свою очередь.
– Ах, милый мой, бедный… ради бога… простите, не думайте. Ах, как мне жалко… послушайте… – говорил толстый человек с слезами на глазах.
Вспышка молодости прошла так же неожиданно, как и пришла. Ему стало совестно и он полюбил Аркадия.
– Послушайте, – продолжал Аркадий. – Я вас знал мальчиком и любил вас, я старше много, мне двадцать три, вам, должно быть, шестнадцать, но я не знаю отчего – оттого ли, что вот это случилось, я знаю, что мы будем друзьями. Для меня слишком тяжелое время, на меня нельзя сердиться. Хотите, и тогда вы увидите, что я не мог хотеть оскорбить кого-нибудь, тем более вас, хотите? Хотите? – повторил он, – вы меня узнаете.
Борис улыбался красный еще, но с гордостью чувствуя, как утихала в нем благородная буря.
– Может быть я ошибся, наверное я ошибся, но я горд, вы простите меня. Я знаю, что и вам тяжело.
– Нет, хотите дружбу мою. Не на шутку. А?
Борис подал ему руку. Аркадий притянул его к себе и поцеловал.
– Вот так. Что мне за дело до других, старые люди – другие люди, у вас всё впереди и у меня, может быть, – и он начал говорить совсем иначе, чем прежде, с добродушным оживлением, доходящим до красноречия. – Видите ли, в жизни есть хорошего только спокойствие, книга и дружба. Дружба – не любовь с чувственностью, а чистое, честное сближение без другой цели, как счастье того и другого. И дружба может быть только тогда, когда оба молоды, всё впереди и оба чисты. Ты, верно, чист, я – почти.
– Какой вы странной! – только сказал Борис. – Вы мне были милы с первой минуты, я может быть от этого вспылил так. С другим я бы не сделал этого. Я тоже верю в дружбу; но я моложе вас, и я не знаю, будем ли мы друзьями. Я прошу времени сойтись, узнать друг друга.
– Хорошо, хорошо, «ты» всё таки можно говорить, я так люблю. Ну, ты слушай. Узнавай меня как хочешь, будем видеться часто. Оставайся обедать.
– Нельзя. Я у Простых.
– У каких? А, милый, ты верно влюблен? Да? – Ну это всё расскажи. Расскажи, какие твои планы, какие твои убеждения. Веришь ли ты? – Планы Бориса были служба, война. Убеждения были убеждения матери. Аркадий улыбнулся и стал рассказывать свои убеждения. Он был пропитан новыми идеями того времени, он был и мистик, и либерал, крайний либерал 1794 года, и поклонник Бонапарта. Борис, впервой слышавший всё это, восхищался и входил в новой мир.
В то время, как такая молодость, и надежда, и бессмыслица, и счастье жило в этой комнате между двумя юношами, княгиня в комнате умирающего делала то самое, что так горячо и гордо отвергал ее сын.
6.
Княгиня вошла в картинную галлерею. Тут сидели доктора и говорили между собой по французски, не находя нужным ломать язык по латыни, которую они все перезабыли. Петербургский говорил о новостях Петербурга, о известиях из Эрфурта, о последнем бале. Metivier слушал. Другие слушали. Один московской даже и слушать не мог. Он был погружен в соображения, сколько ему дадут за консультацию у такого богача. Они всё решили и знали, что у больного водяная в груди, и что он жить не может более нескольких часов. Однако, они прописали многое и при Позоровском много говорили по латыни и спорили. Позоровской вышел к княгине.
– Вот мы с вами опять встретились. Ну, что наш больной?
Позоровской сделал только знак головой и губами, знак, означавший самую плохую надежду.
– Я очень любила его и он любил моего Борю – он ему крестник, я бы желала его видеть.
Позоровской, светский человек, дипломат, занимавший одну из высших должностей в Петербурге и сам приехавший за тем же, за чем и княгиня, тотчас понял.
– Не были бы тяжелы ему такие разговоры теперь, – сказал он. – Подождем до вечера, доктора обещают кризис.[694 - Зачеркнуто: Я не могу]
– Нельзя ждать, любезный князь, женщина нужнее бывает в эти минуты, чем кто бы то ни было. Исполнил ли он последний долг?[695 - Зачеркнуто: Мне надо поговорить] Я приготовлю его.
Безухой[696 - Зач.: был екатерининской вельможа] лежал в кабинете в волтеровском кресле. Около него стояли табакерки с портретами и лекарства, он тяжело дышал и испуганно оглядывался. Он боялся не смерти, но того, что найдет приговор смерти в глазах других. В комнате была бывшая гувернантка его дочери, француженка, исполнявшая уже давно в доме неопределенную роль лектрисы.
– Не хочу я пить этих гадостей. Лорен (петербургский доктор) точно так же ничего не знает, как и они, – говорил он ей. Ее ловкие, белые руки так же тихо и ловко заткнули склянку, как и открыли, и она отошла.
– Как угодно, князь. Не хотите ли чего?
– Одного хочу, – прохрипел он, – чтобы никого ко мне не пускали – особенно этого пролаза кнезь Василья. И зачем он приехал?
В это время дверь тихо отворилась и показался чёрный кружевной чепец и грустное лицо княгини.
– Можно? – Больной подернулся.