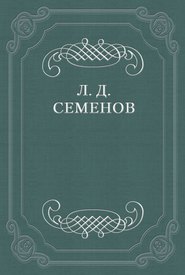По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Грешный грешным
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он горячился, говорил, что надо найти какой-нибудь выход, что так нельзя; просил, чтобы я согласился по крайней мере раздеться в комиссии, может быть, я окажусь еще негодным к военной службе: спрашивали, не чувствую ли я себя нездоровым. Я говорил, что я чувствую себя телесно здоровым, и надежды на то, чтобы меня признали к службе негодным, лучше не иметь. Кроме того, объяснил, что откажусь и раздеваться.
Это уж их вовсе озадачило. Исправник волновался еще более князя. Доказывал, что своим отказом от службы я противоречу той любви «к простому народу», которую сам имею – ибо – если я не буду служить, то вместо меня должен будет пойти кто-нибудь другой, кто бы, может быть, иначе и не пошел на службу. Предлагали согласиться быть военным писарем, обещая и это устроить – если только я дам согласие не отказываться в комиссии. Я отказывался. Князь опять заговорил о своем ужасном положении и о каторге.
Я, чтобы его успокоить, отвечал, что каторги не боюсь, что в сущности и теперь живу жизнью, не много отличающейся от той, которая будет на каторге, – к черной работе и к простоте в пище и одежде я уже привык – работал и у него на шахте, где работа очень тяжелая.
Князь на это с живостью возразил….. и справедливо:
– Но вы работали у меня добровольно, вас никто к этому не принуждал и вы во всякое время могли уйти с шахты, это не то, что каторга.
– Невозможное положение! – восклицал исправник. – Какая-то дикость-нелепость! Каторга! Суд! Для чего? Почему? Человек, который никому никакого зла не делает!?. Ужели же вы думаете, что армия так нуждается в вас – и от того, что один человек откажется, что-нибудь пострадает в ней!?.
– Если она не нуждается во мне, то отпустите меня с Богом! и я буду благодарить Бога и вас за это, – отвечал я. – Это будет самый простой и Божий выход из всего тяжелого для всех положения.
– Да, но мы не можем этого сделать!
– Ведь вы тоже давали присягу.
– Ведь закон…
– Но я лишусь сна на всю жизнь, если буду знать, что я виновник того, что вы на каторге, – заговорил опять князь. – Вы пожалейте нас.
– Если не можете меня отпустить и не хотите меня предавать суду, то выходите в отставку! – предложил в свою очередь я.
– Вот, в самом деле только и остается! – воскликнул исправник не то со смехом, не то взаправду и встал.
Попробовали еще одно средство.
– Уговоры, по-видимому, не имеют больше смысла, – вдруг обратился князь к исправнику. Тот остановился – поглядел на него, и потом, сообразив что-то, о чем, по-видимому, заранее было условлено, отвечал:
– Да. В самом деле – лучше прекратить?
– Тогда что ж? – продолжал князь и поглядел на часы.
– Да можно и сейчас. Пристав недалеко, только послать….. составить протокол и все тут…..
– Вы согласны? обратились ко мне. – Мы вас сейчас арестуем.
Я отвечал, что хотя и не простился с близкими мне, когда ехал сюда, но готов и без этого следовать сейчас же хоть куда, хоть на каторгу, куда поведут…..
Они переглянулись друг с другом, помолчали, но потом, видя, что и это не помогает, решили пока отложить. Меня успокоили, что спеха еще нет. Потом вышли из комнаты. В кабинет вошла княгиня, жена князя, женщина лет сорока. Я ее давно знал, знал ее скорбную жизнь еще в бытность совсем юнцом. Но теперь так утомился длинным и непривычным мне разговором – в непривычной обстановке, в их куреве, оба курили все время, – что сидел совсем подавленный и усталый телом в кресле. Княгиня заметила это – и вместо попытки меня уговаривать, точно смутившись, села и замолчала. Потом – стала уверять меня, что не хочет меня ни в чем разубеждать и уговаривать и любопытствовать, а только хочет узнать от меня, чтобы успокоить свою совесть: Правда ли, что я на все готов и ничем не тревожусь – т. е. совершенно уверен, что так, как поступаю, так и нужно. Я отвечал утвердительно[31 - …утвердительно… – В источнике текста: отвердительно.] притчей из Евангелия.
– Тогда что ж – тогда остается только молчать и порадоваться за вас, что есть еще люди которые что-то находят для себя и стоят в этом.
Еще прибавила несколько слов о своих религиозных убеждениях не таких, как мои. – Сказала, что очень не любила Толстого за то, что тот проповедует одно, а делает другое. Но что смерть его и на нее произвела впечатление и несколько примирила ее с ним.
Я отвечал, что обо Льве Николаевиче нельзя судить по одним его печатным произведениям и по тому, что пишут о нем другие – что нужно было видеть его самого.
Но что-то еще мучило ее. Я чувствовал, что она пришла неспроста ко мне – а что-то важное для нее – спросить меня, высказать, что накипело в ней и не в ней одной, а и кругом в таких, как она, во всем образованном обществе нашего уезда – хотя и не преследовавшем меня и даже сочувствовавшем мне, но и не понимавшем меня – высказать какое-то обвинение его против меня, ушедшего от него. И она, наконец, решилась.
– Простите, Леонид Дмитриевич, – но я вас не понимаю – мы так давно уж знакомы друг с другом – и я вас давно желала видеть – почему же вы совсем не ходите к нам? Или презираете нас за наш образ жизни?
Но ведь не всем же даны силы так переменить жизнь, как это вам удалось. Но если вы нашли истину – так разве должны вы ее скрывать, мне, кажется, вы должны ее нести к людям.
Я отвечал, что не вижу в себе силы и призвания что-нибудь проповедовать другим. А желаю только сам исполнить в своей жизни те малейшие заповеди, которые несомненно считаю за заповеди Божьи, – и больше ничего. Не посещаю же людей прежнего моего общества только потому, что мне по немощи моей тяжело возвращаться опять в круг той обстановки, тех идей – и разговоров, в которых жил раньше. – Они для меня сейчас как старый покинутый мной могильный склеп. И люди образованные должны войти немного в мое положение и не ждать и не требовать от меня того, что может оказаться мне не под силу.
Она немножко что-то, как мне показалось, поняла в моих словак, во все-таки не успокоилась.
– Но неужели же вы действительно нашли близких по душе – людей из простого народа. Я сама народ люблю. Понимаю, что он очень простой у нас, добрый, верующий, понимаю, что образованному человеку, чтобы освежиться, иногда очень полезно и даже необходимо побыть среди него. Но чтобы вы, человек образованный, – могли бы найти среди него людей, которые могли бы вас понять, оценить, вполне удовлетворить всем вашим потребностям, – это мне представляется невероятным. К грязи, ко всей обстановке их, к этому бы я и сама привыкла, но так, чтобы отказаться от книг, от общения с людьми – как-никак более их умственноразвитыми, это я не могу понять…..
Сколько раз пришлось мне после слышать этот смешной и обидный вопрос. Но что отвечать на него? Что отвечать тем, кто не знает, не видит и не видел того, что я видел и знаю. Братья мои, единственные, немногие, верные, чистые, те, у которых со мною одна душа и одно сердце. Про нас сказано: где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди их[32 - …где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди их. – Мф 18: 20.]. И давно уже сказано было: Много ли из вас мудрых и разумных, знатных и богатых. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых; и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Господом. С вами вместе учились мы, я у вас учился, вы у меня, и вместе мы у Единого Премудрого. Нас ли разлучит совопросничество книжных и умных неверующих этим словом Его?![33 - Нас ли разлучит совопросничество книжных и умных неверующих этим словом Его?! – В источнике текста: его.]
Но княгине я отвечал – что народ народу розь – и что я вовсе не считаю весь народ, как она, добрым, простым и верующим, а наоборот делаю из него очень строгий выбор, так что во всей окрестности нашел может быть 5–6 человек – которых считаю своими близкими, но зато они мне ближе всех кровных моих, всех мудрых и разумных ученых, всех прежних друзей моих – хотя я с ними связи вовсе не прерываю.
Но еще что-то тревожило ее.
– Но как вы, вот что меня удивляет, – начала она опять, – решаетесь тревожить их простую веру….. Ну пусть вам обряды не нужны, но им они нужны еще, они так привыкли к ним. Как можно лишать их единственного счастья и покоя – подрывать их веру? Не грех ли это с вашей стороны?
Целая буря ответов поднялась у меня на этот вопрос, как и всегда подымается она, когда слышу его. Но как говорить их тем, кто сам не дошел до них, не додумался еще! И смирив себя, я отвечал коротко, что ничьей веры подрывать не стремлюсь. Стараюсь только сам жить так, как верю, а о том, что из этого выйдет и выходит, – не забочусь – ибо эту заботу мы должны возлагать на Господа, Который печется сам обо всех и с нас требует только одного, чтобы мы были чисты перед ним.
На ее слова, что про меня ходит много самых противоречивых слухов в уезде, которым она, впрочем, не верит, но что ее удивляют мои некоторые слова, которые – как она слышала, я сказал однажды священнику, я спросил ее: была ли она на том собрании и слышала ли, что там было. Оказывалось, что нет.
А потом объяснил, что однажды еще в первый год, когда пришел сюда, имел один разговор со священником и тогда объяснил ему, что сам в иконы не верю, но в них не верит и молодежь в себе – об этом можно судить по тем прискорбным явлениям, которые у нас в селе были и которые всем известны, известны и княгине. Назад к иконам – народ сдвинувшийся с этой веры последними событиями в России уже не вернешь. Лучше уж говорить им о Боге без них, чем оставлять его вовсе без всякого знания о Боге, ибо за Богом с иконами он уже не пойдет. Вот и все слова, по которым может священник судить о моей вере: все же другие утверждения и слухи, что я хлыст, масон, толстовец, скопец. – выдумки досужих людей.
Становилось уже темно. Она прекратила разговор и пригласила меня в столовую. Там уже князь и исправник напились чаю и дожидались нас. Меня тоже усадили за чай. Угощали сыром, сливками и бисквитом. Исправник ходил по комнате, курил и по-прежнему возмущался всем делом.
– И кому оно нужно? И вдруг каторга, суд! Ну мы все понимаем: войны все это нехорошее дело. Но пусть японцы, пусть немцы раньше разоружатся. Его величество государь Император сам первый об этом заговорил, когда собирал Гаагскую конференцию. И что ж из этого вышло. Одна насмешка. Уж если такой могущественный монарх, как наш государь, ничего не мог сделать, то что же вы-то один поделаете? – спрашивал он меня. Наконец доложили, что за мной приехали из деревни. Братья, встревоженные моим долгим отсутствием, поехали разузнавать обо мне. Я стал прощаться. Князь и княгиня вышли на двор меня провожать. Князь попросил позволения поцеловаться со мной, что я и исполнил с радостью.
Таковы были мои первые встречи с образованным обществом через три года после того, как я ушел от него. Чувствовалась любовь в тех, с которыми сталкивался я, – но и пусто, тяжело как от угара становилось от всего дня, от всех многословных громких разговоров – в которых образованные совсем не делают передышки, точно боятся или считают невежливым молчание, тяжело от того, что не дают тебе ни минуты сосредоточиться в себе, побыть одному, обратиться к Богу, ибо сами не веруют в это и не знают этого, от всего неверия их в то, что Бог есть и что Он Сам без них наполняет уже все своим попечением, и как птица-мать о своих птенцах печется о нас всех, тяжело от всех их хлопотливых и дерзко-своевольных забот о себе, забот обо мне, о других людях, о том народе, от которого себя отделяют и который глупее, необразованнее их, но и в самых малейших своих детях мудрее их – ибо ум не есть мудрость, тяжело от высокоумия их. Господи, прости и мне, и им грехи наши. Но как опустошенный бурей был я душой в этот день, и молчал среди братьев – точно нечистый, точно прикоснувшийся к нечистому и осквернившийся этим.
Узел надо мной затягивался туже и на братьев находила печаль – от меня, но и Господь Всемогущий не оставлял нас все большими и большими милостями в этот последний мой год среди них.
Князь после разговора со мной написал письмо моим родным о моем деле, должно быть, просил их повлиять на меня.
Я в свою очередь написал отцу и деду обо всем и просил их в это дело не вмешиваться, а предоставить все на волю Божию. Мой отец со свойственной ему чуткостью отвечал князю, что считает меня человеком взрослым и потому не может делать попыток препятствовать мне проводить мои взгляды в жизнь – хотя и любит меня и хотя ему больно, что мои убеждения не сходятся с его убеждениями, – но пока ничего не видит другого, как предложить князю исполнить то, к чему обязывает его служба и присяга. Мать сделала попытку письмом, пересланным через князя, на меня повлиять, а князь неофициально через своих служащих предлагал мне удалиться из уезда на время – в надежде, что дело удастся как-нибудь затушить. В последнее я не верил, а скрываться хотя бы и на время со своего поста не считал для себя приемлемым, и на все их предложения отвечал отказом.
Недели через две после этого урядник привез повестку, чтобы я явился в комиссию в Данков, и просил меня под ней подписаться, что я явлюсь туда сам. Я подписался уклончиво, что я явиться туда не отказываюсь, – и объяснил уряднику, почему так делаю, что обещаний никаких вперед давать не могу, ибо не знаю, что мне в тот день укажет Господь. Но когда этот день приблизился, я почувствовал, что в этот день идти туда не могу. Трудно объяснить неверующим, как и в чем черпает дух человека верующего и ищущего Бога живого удостоверение, что то, что он избирает, указано ему не его волей, но волей Разумной, и высшей чем разум человеческий – но это тот самый Дух, про который в Деяниях апостольских писано: Дух остановил Павла идти в Асию[34 - …Дух остановил Павла идти в Асию… – Точный текст: «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии» (Деян 16: 6).], Дух указал Филиппу подойти к богатой колеснице евнуха царицы Ефиопской, когда тот читающий пророка Исайю повстречался ему[35 - …Дух указал Филиппу подойти к богатой колеснице евнуха царицы Ефиопской, когда тот читающий пророка Исайю повстречался ему. – Точный текст: «Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исайю. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице» (Деян 8: 27–29).]. Старцы в своих писаниях дают подробные наставления ищущим начинающим и вполне точные о том, что считать нам в себе во всех сложных и трудных случаях жизни, чтобы находить из них выход, указаниями Божьими, какие признаки отличают их от движений нашей воли и нашей души, как достигать их, как выпрашивать их у Господа. Вера, что Бог непосредственно должен давать указания нам как жить, как действовать, даже в ежеминутных движениях наших, отвечать ощутительно на наши прошения и требования к Нему – есть живая вера в Него – она естественно вытекает из веры в Него как в Живого Бога, в Творца, в Промыслителя, в Отца, пекущегося о нас как о детях Своих. Кто говорит, что верит во второе, а не верит или не знает первого, т. е. кто не знает непосредственного Его живого присутствия с нами во всех делах наших и обстоятельствах нашей жизни, тот не знает, что говорит, того вера либо ложь, либо пустой звук. Вопросом может быть для верующих только то, что считать Его указаниями? Этот вопрос занимал и Льва Николаевича при его жизни на земле. Однажды он написал мне в письме, что не видит еще того, чтобы пришло ему время посетить меня и наших братьев у нас (в ответ на их приглашение) – «несмотря на самое горячее желание мое, не вижу наверное того, что вы называете указанием Божьим». В другое время говорил, что, наверное, этого-то особого указания и не хватает ему, чтобы решиться наконец уйти из дому. И конечно, не рассудком, не человеческим разумом или не каким-нибудь расчетом его руководился он, когда наконец решился покинуть свой дом. Общий признак того, что решение, которое ты принимаешь, есть решение не твое, а действительно Божие – есть, во-первых, глубина твоего чувства в этот миг – ибо без глубины смирения, без глубины сознания всей ответственности за твое решение, ответственности перед всем миром – ибо и с каждой песчинкой в нем связан ты и нет даже ни одного твоего вздоха, который бы не отразился как-нибудь и на других, – без этого сознания не будет и чиста молитва твоя к Богу. Еще нужна чистота сердца: это есть готовность отдать всю твою жизнь за каждое решение, какое бы оно ни было, хотя бы и самое нежелательное тебе, одинаковая готовность на два самых противоположных борющихся в тебе решения, лишь бы решение было не от тебя – а от Него. Когда так молитвой и внутренним деланием и тишиной и болезнованием сердечным стяжаешь чистоту в себе, заметишь, что одно из решений начинает в тебе вдруг превозобладать над другим, или еще третье неожиданно новое является в тебе и поражает тебя своей ясностью и простотой, дает покой и свободу твоему сердцу, отходят его болезнование и все сомнения далеко прочь от тебя. Тогда с верой последуй за этой звездой. В этот миг не нуждается человек в каких-либо доводах рассудка, что это решение и есть истинное, он верой следует ему, веря, что оно от Того, Кто премудрее и разумнее всех тварей – потому что к Нему обращался и Его просил и верит, что всего, чего не попросит человек у Него во имя Его, все дается ему. Но потом, когда уже исполнишь, что повелено тебе было, – и начнешь созерцать повеленное двивной радостью и благодарностью преисполнится сердце твое к Нему, ибо тогда поистине без конца будешь удивляться тому, как мудро было то решение, какое Он послал тебе. Грешный я человек и нечистый и полный всякого смрада своих мятущихся пожеланий и мыслей, но и я – ибо и немощное избирает Господь для дел своих – и так верьте, что и каждый и из вас может быть орудием Его воли на земле, и я стою крепко в той вере как тогда, так и сейчас, что то решение мое, о котором пишу сейчас, было не мое, а Его указание….. о чем и засвидетельствовал тогда письменно перед понятыми и урядником, какие-то невидимые силы удерживали меня – в те дни и не давали проститься с братьями, когда собирался от них идти в Данков, в комиссию, где мог ожидать сразу отдачи меня под суд, грозивший мне каторгой, как говорил мне об этом князь. Только с одной близкой и дорогой сестрой-старушкой, ожидавшей земной кончины, простился я окончательно. Когда же пришел день, в который надо было идти, я после той молитвы и того болезнования сердечного, о котором говорил, – вместо того чтобы идти в Данков – пошел к уряднику – и написал заявление, что сейчас не вижу указания Божия идти к ним, а приду к ним тогда, когда Господь же это укажет, если же Господь попустит их применить ко мне силу, то это Его воля – и я насилию насилием противиться не буду.
Теперь я знаю, что это было требование Господне – ко мне идти на пути много избранном верности Ему Одному – до конца. Он Один Господин мой, и я должен был я показать людям, что во всех даже и самых малейших делах в распределении земного времени должен Его Волю предпочитать людской, пока я свободен, пока обращаются еще со мной люди как с рабом, т. е. еще не употребляют против меня силу. И Господь Всемогущий тут же указал мне, какое дело Он предпочитает тем всем мертвым делам и горделивым требованиям в разные свои комиссии людей неверующих в Него и привыкших без Него распоряжаться другими людьми и их временем, как своей собственностью. В тот же вечер, когда вернулся я в деревню от урядника, узнал я, что сестра Дуня, – бабушка, совсем слегла и просит меня к себе, ждет, что я никуда не уйду, пока не отойдет она к Богу с миром, и буду около нее до ее последних минут. Так чудно это и совершилось: за мной приехали меня арестовать через неделю, когда она уже лежала без памяти, со всеми нами и со мной простившись, а когда сажал меня урядник в сани, прибежали из избы сказать, что она отошла совсем. Мир и мир всем.
Конечно, теперь можно сказать: ты бы объяснил в комиссии, что задержался потому, что хотел побыть у смертного одра близкой тебе сестры, – но что бы это значило для официальной комиссии. Кто эта сестра тебе? Спросили бы меня. Безграмотная старушка, бывшая крепостная того помещика, который на меня доносил вам! Вот и все, что бы я мог ответить им на это. И еще: когда отказывался я идти в Данков, – я не знал ничего, для чего я это делаю. А только чувствовал невидимую Светлую Силу, которая не пускала меня в этот миг покорствовать людям. Вот и все, что я знал тогда, и что знал, то и написал им. Но моя бумажка, пришедшая в комиссию вместо меня, вызвала там целую бурю. Что такое? Да он с ума сошел! Заговорили все; что ж? Мы будем ждать что ли, когда его бог ему укажет явиться к нам – или ждать повесток от его бога, когда он прикажет нам собираться на заседание. Ничуть не бывало. Господь только указывал им через меня малейшего, что их дело есть дело насильное – и оставалось им только идти в своем деле насилия до конца – т. е. не ждать, чтобы я шел к ним, а применить ко мне силу. Губернатор так и поступил. Рассердившись докладом об этом, он телеграфировал исправнику: меня немедленно арестовать и содержать в участке до следующего заседания комиссии, т. е. целый месяц. Никакого права по своим законам он на это, конечно, не имел, как и сам потом сознавался, но дело было сделано. За мной приехал пристав с урядником и стражниками, и в сумерки, чтобы не очень заметно было народу, вывезли из села в Данков. Пристав, добродушный, простой человек, извинился и стеснялся и старался так обставить арест, чтобы мне не было «стыдно», говорил, что он этого не любит и т. д. Ночью часа в два привезли меня в Данков в казармы стражников. Исправник не спал и сейчас же прислал мне туда своего служащего с кофейником, со спиртовкой и двумя французскими булками, чтобы напоить меня, согреть и устроить спать. Заботы меня стесняли, но и трогали. На другое утро опять тот же присланный слуга, брат Матвей, повел меня к нему на квартиру. Исправник, как оказывалось, был совсем одинокий холостой человек, жил в собственном доме, но в скромном флигеле-особнячке на дворе. Совсем просто было все у него, со служащим своим и его знакомыми портными и другими простыми людьми города – пил вместе чай – читал газеты, рассуждал и занимался фотографией, а летом садоводством в своем маленьком садике.
– Наш барин простой, совсем простой, – рассказывал мне по дороге брат Матвей – уж как он эту свою службу не любит, сам этого не любит. Только бы выслужить ему пенсию и уйти. К осени думает уйти уж. Он мухи сам не обидит, такой человек, что и говорить. Его «барин» меня встретил за чаем и принялся сейчас же рассказывать, что произвела моя бумажка, – я вас за сумасшедшего не считаю, но вы сами, батенька, даете повод таким слухам. Ну что вы сделали? Для чего это все? Теперь по городу слухи, толки пошли, такая кутерьма, просто страсть. Губернатор телеграфирует вас арестовать. И вот я принужден….. Да вы пейте чай, с сахаром? со сливками? может быть – яйца хотите? Чем мне вас угощать? Может быть голодны.
Матвей тоже угощал, накладывал варенья на блюдечки, постный сахар, орехи, масло. Меня стесняли эти угощенья и шумные чувства исправника, но и радовала его простота.
Он по-прежнему, как и у князя Д., удивлялся.
– И кому это все нужно? Человек никому никакого зла не делает – и вдруг арест, участок, суд, каторга! Да разве нужны вы армии – ну что значит ей один человек! Сам государь император вам сочувствует, ведь он с вами заодно, ведь и он того же хочет. Но когда Его величество сам государь Император ничего сделать не может, то что же вы-то сделаете. Он собирал Гаагскую конференцию и что ж из этого вышло: одна насмешка других держав. Да вы напишите вашему деду письмо. Ваш дед все может. Ну позвольте я ему напишу. Ему только стоит съездить во дворец – доложить Государю Императору, попросить, вот и все.
Другие электронные книги автора Леонид Дмитриевич Семенов
Проклятие




 4.67
4.67
Великий утешитель




 4.67
4.67
VAE VICTIS!




 4.5
4.5
Размышления о Будде




 4.67
4.67
О смерти Чехова




 4.5
4.5
Городовые




 4.5
4.5