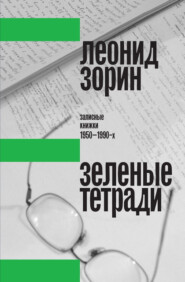По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Десятый десяток. Проза 2016–2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Когда я напоминала ему, что нужно держать себя в руках и сознавать закономерность происходящих с ним перемен, он приходил в негодование.
– Как вы не можете осознать такой простой и понятной вещи, что люди изваяны или вылеплены из разной, совсем не схожей глины, что среди них попадаются те, кто был задуман, на их беду, Всевышним Озорником молодыми. И появляются экземпляры вроде меня. Поймите, я лошадь, которую выпустили на манеж. Такие кони не сходят с круга.
Я говорила:
– И кони старятся.
Он возражал:
– Не артисты цирка.
24
В тот черный, роковой его год наши беседы стали отрывистыми, и возникали без всякого повода, и неожиданно иссякали.
Порою, не объясняя, в чем дело, он резко обрывал диалог и озабоченно задумывался.
Потом неожиданно произносил нечто совсем не относившееся к предмету нашего разговора. Однажды сказал, что победа показывает то, что мы можем, но лишь поражение обнаруживает, чего мы сто?им. И вновь погружался в свою неизменную, печально немотствующую думу.
Однажды, чтоб разрядить атмосферу, которая заметно сгущалась во время этих перенасыщенных, словно пульсирующих пауз, я бросила:
– В церковь вам, что ли, сходить?
Он лишь вздохнул. И совсем не шутливо, скорей даже с горечью пробормотал:
– Нет, что-то боязно. Очень она смахивает на министерство.
И, помолчав, негромко добавил:
– Она должна быть миролюбива. Тиха, печальна и утешительна. Не окружать себя упырями, шагая с крестом наперевес.
25
Вы спрашиваете, насколько его притягивала и занимала та специфическая часть жизни, которую мы называем «политикой».
Насколько понятен мне ваш вопрос, настолько же непросто ответить.
Естественно, он вполне сознавал политизированность мира, даже и той сравнительно узкой, строго отцеженной среды, в которой он прожил зрелые годы. Но говорить он предпочитал о книгах и о своей работе, вернее, о том, успеет ли он благополучно ее закончить. Однажды мимоходом заметил, что на политической кухне чаще всего преуспевают люди без нравственных тормозов. Что независимо от побуждений здесь преступаются все наши заповеди. И самые благие порывы претерпевают необратимые, почти ирреальные метаморфозы. Все повара на этой кухне имеют дело со слишком опасными и взрывчатыми ингредиентами – будь то определение зла, национальная исключительность, социалистическая зависть и социальная справедливость. Решающую роль тут играет наш генетический состав. Мы далеки от совершенства. И это наиболее мягкое, что можно сказать о нашем семени.
Что же касается писателей, которым по роду своей работы сложно отвлечься от этих игр, он полагал, что для них полезен и плодоносен чеховский опыт.
Когда по привычке я возразила, напомнила, что Антону Павловичу ни ум, ни трезвость, ни чувство дистанции не дали счастья, Волин вздохнул:
– Он был невезуч. И даже признание не принесло ему ни покоя, ни счастья в любви. Не дожил и до спокойной старости. А после смерти сопровождали какие-то пакостные гримасы. То гроб привезут в вагоне для устриц, то памятник возведут век спустя на месте общественного сортира. Впрочем, теперь ему все равно. Как говорится, ни жарко ни холодно.
26
Пожалуй, и он не знал покоя. Не мог, не умел смириться с тем, что минуло, ушло его время. Ушли его стать и южная лихость – наука старости не далась. Все думал, что так же неутомим, что все по плечу, что дело в одном – необходимо лишь сильно хотеть.
Однажды, когда я попросила уняться, не отравлять себе жизни, а кстати, и пожалеть меня – уже не пойму, чего он хочет, он безнадежно махнул рукой:
– Много ль мне надо? Доброе слово.
Я вспыхнула:
– Да, это в вашем духе. Слово вам важнее всего. Но я совсем другого замеса. Цену имеет не слово, а дело.
Он еле заметно повел плечом:
– Каждому – свое, дорогая.
Я лишь гадала – в чем тут загвоздка? Неужто так много ему недодано? Его биография мне казалась на диво удавшейся и успешной. А он твердил, что готов обойтись без всяких даров и щедрот фортуны, без всех отличий и побрякушек. Но он не может садиться за стол, не может трудиться, не может думать, если не слышит ласковых слов. Он говорил мне, что тут же вянет и остро чувствует одинокость.
Однажды я фыркнула:
– Мимоза.
Он сухо, даже резко сказал:
– Я работяга, грузчик и возчик, и вообще, я – черная кость. Особенно в сравнении с вами.
– Кто ж я, по-вашему?
– Вы, дорогая, этакое дворянское гнездышко. Маетесь со своим разночинцем.
Я неожиданно разозлилась:
– Господи, как вы мне осточертели! И угораздило же меня!
Волин удовлетворенно кивнул:
– То, что и требовалось доказать.
27
Когда дела совсем стали худы и жизнь с беспощадной стремительностью рвала все связывающие их нити, он окончательно замолчал. Казалось, что хочет себе ответить на точащее его сомнение. Внезапно пробурчал:
– Остолопы.
– О ком вы?
– О себе и о вас. Зачем валяли мы дурака? Раз уж случилась такая оказия, надо было нам не выпендриваться и не играть в свободных художников.
– И как надлежало нам поступить?
Он словно нехотя отозвался:
– Да попросту жить под одною крышей, не разлучаться ежевечерне. Сколько мы времени были врозь. Вот уж не хватило ума.
– Как вы не можете осознать такой простой и понятной вещи, что люди изваяны или вылеплены из разной, совсем не схожей глины, что среди них попадаются те, кто был задуман, на их беду, Всевышним Озорником молодыми. И появляются экземпляры вроде меня. Поймите, я лошадь, которую выпустили на манеж. Такие кони не сходят с круга.
Я говорила:
– И кони старятся.
Он возражал:
– Не артисты цирка.
24
В тот черный, роковой его год наши беседы стали отрывистыми, и возникали без всякого повода, и неожиданно иссякали.
Порою, не объясняя, в чем дело, он резко обрывал диалог и озабоченно задумывался.
Потом неожиданно произносил нечто совсем не относившееся к предмету нашего разговора. Однажды сказал, что победа показывает то, что мы можем, но лишь поражение обнаруживает, чего мы сто?им. И вновь погружался в свою неизменную, печально немотствующую думу.
Однажды, чтоб разрядить атмосферу, которая заметно сгущалась во время этих перенасыщенных, словно пульсирующих пауз, я бросила:
– В церковь вам, что ли, сходить?
Он лишь вздохнул. И совсем не шутливо, скорей даже с горечью пробормотал:
– Нет, что-то боязно. Очень она смахивает на министерство.
И, помолчав, негромко добавил:
– Она должна быть миролюбива. Тиха, печальна и утешительна. Не окружать себя упырями, шагая с крестом наперевес.
25
Вы спрашиваете, насколько его притягивала и занимала та специфическая часть жизни, которую мы называем «политикой».
Насколько понятен мне ваш вопрос, настолько же непросто ответить.
Естественно, он вполне сознавал политизированность мира, даже и той сравнительно узкой, строго отцеженной среды, в которой он прожил зрелые годы. Но говорить он предпочитал о книгах и о своей работе, вернее, о том, успеет ли он благополучно ее закончить. Однажды мимоходом заметил, что на политической кухне чаще всего преуспевают люди без нравственных тормозов. Что независимо от побуждений здесь преступаются все наши заповеди. И самые благие порывы претерпевают необратимые, почти ирреальные метаморфозы. Все повара на этой кухне имеют дело со слишком опасными и взрывчатыми ингредиентами – будь то определение зла, национальная исключительность, социалистическая зависть и социальная справедливость. Решающую роль тут играет наш генетический состав. Мы далеки от совершенства. И это наиболее мягкое, что можно сказать о нашем семени.
Что же касается писателей, которым по роду своей работы сложно отвлечься от этих игр, он полагал, что для них полезен и плодоносен чеховский опыт.
Когда по привычке я возразила, напомнила, что Антону Павловичу ни ум, ни трезвость, ни чувство дистанции не дали счастья, Волин вздохнул:
– Он был невезуч. И даже признание не принесло ему ни покоя, ни счастья в любви. Не дожил и до спокойной старости. А после смерти сопровождали какие-то пакостные гримасы. То гроб привезут в вагоне для устриц, то памятник возведут век спустя на месте общественного сортира. Впрочем, теперь ему все равно. Как говорится, ни жарко ни холодно.
26
Пожалуй, и он не знал покоя. Не мог, не умел смириться с тем, что минуло, ушло его время. Ушли его стать и южная лихость – наука старости не далась. Все думал, что так же неутомим, что все по плечу, что дело в одном – необходимо лишь сильно хотеть.
Однажды, когда я попросила уняться, не отравлять себе жизни, а кстати, и пожалеть меня – уже не пойму, чего он хочет, он безнадежно махнул рукой:
– Много ль мне надо? Доброе слово.
Я вспыхнула:
– Да, это в вашем духе. Слово вам важнее всего. Но я совсем другого замеса. Цену имеет не слово, а дело.
Он еле заметно повел плечом:
– Каждому – свое, дорогая.
Я лишь гадала – в чем тут загвоздка? Неужто так много ему недодано? Его биография мне казалась на диво удавшейся и успешной. А он твердил, что готов обойтись без всяких даров и щедрот фортуны, без всех отличий и побрякушек. Но он не может садиться за стол, не может трудиться, не может думать, если не слышит ласковых слов. Он говорил мне, что тут же вянет и остро чувствует одинокость.
Однажды я фыркнула:
– Мимоза.
Он сухо, даже резко сказал:
– Я работяга, грузчик и возчик, и вообще, я – черная кость. Особенно в сравнении с вами.
– Кто ж я, по-вашему?
– Вы, дорогая, этакое дворянское гнездышко. Маетесь со своим разночинцем.
Я неожиданно разозлилась:
– Господи, как вы мне осточертели! И угораздило же меня!
Волин удовлетворенно кивнул:
– То, что и требовалось доказать.
27
Когда дела совсем стали худы и жизнь с беспощадной стремительностью рвала все связывающие их нити, он окончательно замолчал. Казалось, что хочет себе ответить на точащее его сомнение. Внезапно пробурчал:
– Остолопы.
– О ком вы?
– О себе и о вас. Зачем валяли мы дурака? Раз уж случилась такая оказия, надо было нам не выпендриваться и не играть в свободных художников.
– И как надлежало нам поступить?
Он словно нехотя отозвался:
– Да попросту жить под одною крышей, не разлучаться ежевечерне. Сколько мы времени были врозь. Вот уж не хватило ума.