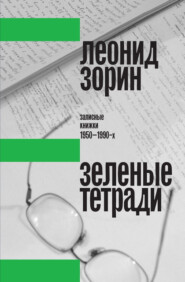По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Десятый десяток. Проза 2016–2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В сущности, мне стоило быть более благодарным Рубецким, – меня не баловали визитами – но почему-то я был раздражен. В особенности советами Нины. И все же потом – не раз и не два задумывался над странным словом, которое она столь торжественно, почти молитвенно произнесла.
4. Автор
Смирение. Хотел бы я знать, что означает это понятие. Я взрос на твердом и прочном грунте, заведомо исключавшем сомнения. Я знал, что следует уважать истинно верующих людей, но сам я и все, кто был мне знаком, жили, не ведая таинств и тайн. В библейских текстах меня волновало лишь то, что роднит их с миром поэзии, с ее непознаваемой магией. Любой человек обязан быть искренним, когда беседует с самим собою, а пишущий человек – тем более, или он должен бросить перо. Я знал: я таков, каков я есть.
Итак, меня призывают смириться. Согласен, тут есть свое безусловное рациональное зерно. Недаром же на этом понятии в далекие дни зародилось монашество. В моем обостренном хворью сознании возникла пестрая галерея невесть откуда взявшихся образов.
Роились брадатые отшельники с эпическими античными лицами, Эрмиты с сомкнутыми устами, мудрые Пимены – летописцы, аскеты, которым не было страшно остаться с собою наедине.
Много ль среди коллег-современников таких решительных добровольцев? Способных на многолетний постриг, которого требует настоящая, а не рептильная литература?
И разве ты сам готов к этой схиме? С твоим-то норовом, нетерпением, с таким небезопасным эзотерическим костерком, который жжет тебя с малолетства? Вместо того чтоб его затушить, только подбрасываешь в него хвороста.
Мысленно я представил себе письменный стол, который отныне заменит мне спорт, перемену мест, новых людей, подруг, кочевья… Остановись, не по Сеньке шапка.
Но все резоны и аргументы мне ничего не прояснили, ни от чего не уберегли.
Минуло много суровых лет, мне суждено было побывать еще во множестве переделок. Было немало пьес и больниц, было исписано много бумаги, хватало праздников и утрат. Утрат, разумеется, было больше.
Они не прибавили дарования, но научили смотреть внимательней и видеть не себя одного. Всматриваться в чужие судьбы.
Теперь уж не вспомнишь, с чего началось, как увлекла меня, как затянула эта история братьев Ф.
Сперва я задумался о старшем, потом о младшем, о той стране, в которой однажды они родились, которая вместе с ними менялась, которой они до конца служили.
Эти раздумья были отрывочны, хрупки, толкнутся, но не задержатся, не укоренятся в сознании, освобождают место другим.
И вот – через столько десятилетий – вернулись. На сей раз – всерьез и надолго. Чем дальше, тем больше меня волновало и то, как крепко-накрепко связаны, и то, как несхожи они меж собой.
5. Автор
В детстве отношения братьев обычно далеки от идиллии. В особенности если братья – погодки. Младший с досадой смотрит на старшего. Тому повезло появиться на свет раньше, он сознает свое первенство, и вот он одаривает тебя небрежным снисходительным взглядом, а может и вовсе проигнорировать. Когда бывает не в настроении, делает тебе замечания, когда благодушен, еще того хуже, он унижает тебя покровительством. И то и другое – невыносимо.
Но вот поди ж ты – этих двоих леший веревкой повязал – сразу же прочно срослись друг с дружкой, словно сиамские близнецы. Старший был ровен, ничем не подчеркивал доставшихся возрастных преимуществ и не спешил утвердить верховенство.
Разве одно только обращение, сопровождавшее детские игры, могло возбудить в младшем брате досаду. «Малыш». Но младший не возражал. К этому слову привык он сызмальства, старший его произносил с недетской нежностью – все дивились: откуда в мальчике это взрослое, даже отеческое чувство?
Они безусловно были не схожи. Старший – стремительный, склонный к действию и неожиданным поступкам, точно вобрал в себя жар и порох, отпущенный Югом им на двоих. Младшему вроде бы и не осталось выбора – надо было выращивать собственный, особый характер – неброский, сдержанный, основательный. И он, по всем статьям, преуспел – был не по возрасту рассудителен. Но так он лишь выглядел, суть была та же – стойкая, упрямая страсть.
Оба были отчетливо даровиты. Старший испытывал тягу к словесности, младшего влекло рисование. Обычно такая горячка проходит, люди, взрослея, предпочитают выбрать занятия понадежней. Но эти детские увлечения на сей раз не собирались уняться, остыть, охладиться, войти в берега. Напротив, стали делом их жизни. Возможно, этому поспособствовала и их семитская одержимость, и выплеснувшие ее наружу две бури – февральская и октябрьская, а дальше и годы Гражданской войны.
Вокруг тех обезумевших лет бурлят неукрощенные страсти. Они то смолкают, то оживают – истина все не дается в руки. Поныне не запеклась, не свернулась пролившаяся некогда кровь. Поныне правнуки побежденных, не укрощенные долгим веком, – кто на земле своих отцов, кто в дальней эмигрантской диаспоре – убеждены в правоте своих предков, по-прежнему те, кто относят себя к прямым наследникам победителей, – кто громче, кто глуше – волнуются, спорят, доказывают свою правоту.
Для братьев все было предельно ясно. С первого митинга, с первого дня. Невероятный семнадцатый год открыл собою новую эру. Он распахнул пред ними врата. Семнадцатый даровал свободу.
Как ослепительно это слово. Вообразим, что на этом свете есть с давних времен государство слов, что в нем кипят наши грешные страсти – слова, как люди, спорят за первенство, выстраивают свою иерархию – какое из них окажется главным?
О, несомненно – слово «свобода». Власть его над умами и душами несокрушима и необъятна.
Стоит лишь вслушаться, как колокольно, как триумфально оно звучит. В нем точно бродит пьянящий хмель. Свобода. Праздничная мечта. Мощь, вдохновение, темперамент. Право же, если слова – фантомы, этот фантом пленительней всех.
Те, кто решат его приручить, назвать его человеческим именем, таким, какие дают циклонам, пусть окрестят его Клеопатрой, требующей, чтоб ей платили собственной жизнью за ночь любви.
6. Автор
Мышонок. Так младший его окрестил. Бесспорно, это шутливое прозвище возникло из-за фонетической близости с именем брата. Но не только. Хотелось, возможно, и неосознанно, немного себя уравнять в правах. Дело ведь было не просто в том, кто первый появился на свете. Не год рождения, нет, та страсть, которая клокотала в старшем, определяла и все решения, и выбор действий, когда это требовалось. Она и делала его лидером.
Это не значит, что младший брат был изначально лишен амбиций. Он рано открыл в себе дар рисовальщика и вовсе не думал зарыть его в землю, был он упорен и трудолюбив.
Известны слова Александра Сергеевича о том, что поэзии необязательно быть умной дамой, – ему виднее, но сам-то анафемски был умен.
Старший из братьев не сомневался, что близкая ему сфера словесности милой наивности не допускает, – смолоду отличался напористым, цепким и озорным умом. Ум младшего был трезвым и ясным, под стать характеру – уравновешенным. Пожалуй, один дополнял другого.
Но одаренность не возвела незримой стены меж ними и миром – слишком они любили жизнь. Тем более оба на редкость здраво оценивали свои возможности и сильные и слабые стороны.
Такая зрелость в столь юном возрасте сама по себе бесценный дар, но главной удачей этих двоих было их совпадение с временем. Они совпали с воздухом века, с его направлением, даже – с ритмом.
Их молодой двадцатый век с первых же своих дней взорвал неторопливую русскую жизнь. И русская жизнь приняла вызов, стряхнула долгое оцепенение, словно решила на этот раз осуществить мечту поэта – стать птицей-тройкой, настичь историю, вернуть, наконец, ей свой давний долг.
Возможно, у многих моих друзей, вполне отрихтованных новым столетием, столь романтический энтузиазм вызовет грустную улыбку. Их можно понять – припоздавшая мудрость нам слишком дорого обошлась. Однако можно понять и тех, кому сакральная мифология поныне кружит седые головы.
Вдруг оживает в озябшей памяти тесная комната, тесный круг, еще совсем молодой Булат впервые поет нам о той далекой, о той единственной, той Гражданской, когда наши деды вступали в жизнь, согласно думали и дышали. И не было ни слов-симулякров, ни этих увертливых телодвижений в попытках отстоять свою дурость и оправдать поклонение идолам.
А оба брата – старший и младший – были счастливыми людьми. Им выпало вовремя родиться, точно понять свое назначение, не обмануть своих надежд.
Они и сами порой дивились. Старший однажды негромко сказал:
– Малыш, а ведь нам с тобой повезло.
– И в чем же это?
– А вот подумай. Словесность – это дремучий лес, и живопись твоя не шоссе. Будь мы с тобой чуток поглупей и позаносчивей, мы бы сдулись.
– Ты полагаешь?
– Я убежден. Представь себе двух юных павлинов, они напыщенны, высокомерны и распускают свои хвосты. Я уверяю себя, что рожден, чтоб сотворить какой-нибудь эпос, нынешнюю «Войну и мир». А ты грунтуешь громадный холст и лучшие, румяные годы тратишь на некий мощный сюжет – «Освобождение труда» или «Восстание народа». Дали бы мы с тобою маху.
– Ты прав, Мышонок.
– О, как я прав. Еще не раз ты в том убедишься. Мы сделали с тобой то, что надо, и выбрали то, что нам по мерке. У каждого в этом мире свой жанр, у каждого свое амплуа.
Младший покачал головой.
– Мы не актеры.
– А ты неправ. В отличие от старшего брата. И некоего господина Шекспира. Актеры, малыш. И у нас с тобою, как и у прочих млекопитающих, есть предназначенные нам роли.
7. Младший
4. Автор
Смирение. Хотел бы я знать, что означает это понятие. Я взрос на твердом и прочном грунте, заведомо исключавшем сомнения. Я знал, что следует уважать истинно верующих людей, но сам я и все, кто был мне знаком, жили, не ведая таинств и тайн. В библейских текстах меня волновало лишь то, что роднит их с миром поэзии, с ее непознаваемой магией. Любой человек обязан быть искренним, когда беседует с самим собою, а пишущий человек – тем более, или он должен бросить перо. Я знал: я таков, каков я есть.
Итак, меня призывают смириться. Согласен, тут есть свое безусловное рациональное зерно. Недаром же на этом понятии в далекие дни зародилось монашество. В моем обостренном хворью сознании возникла пестрая галерея невесть откуда взявшихся образов.
Роились брадатые отшельники с эпическими античными лицами, Эрмиты с сомкнутыми устами, мудрые Пимены – летописцы, аскеты, которым не было страшно остаться с собою наедине.
Много ль среди коллег-современников таких решительных добровольцев? Способных на многолетний постриг, которого требует настоящая, а не рептильная литература?
И разве ты сам готов к этой схиме? С твоим-то норовом, нетерпением, с таким небезопасным эзотерическим костерком, который жжет тебя с малолетства? Вместо того чтоб его затушить, только подбрасываешь в него хвороста.
Мысленно я представил себе письменный стол, который отныне заменит мне спорт, перемену мест, новых людей, подруг, кочевья… Остановись, не по Сеньке шапка.
Но все резоны и аргументы мне ничего не прояснили, ни от чего не уберегли.
Минуло много суровых лет, мне суждено было побывать еще во множестве переделок. Было немало пьес и больниц, было исписано много бумаги, хватало праздников и утрат. Утрат, разумеется, было больше.
Они не прибавили дарования, но научили смотреть внимательней и видеть не себя одного. Всматриваться в чужие судьбы.
Теперь уж не вспомнишь, с чего началось, как увлекла меня, как затянула эта история братьев Ф.
Сперва я задумался о старшем, потом о младшем, о той стране, в которой однажды они родились, которая вместе с ними менялась, которой они до конца служили.
Эти раздумья были отрывочны, хрупки, толкнутся, но не задержатся, не укоренятся в сознании, освобождают место другим.
И вот – через столько десятилетий – вернулись. На сей раз – всерьез и надолго. Чем дальше, тем больше меня волновало и то, как крепко-накрепко связаны, и то, как несхожи они меж собой.
5. Автор
В детстве отношения братьев обычно далеки от идиллии. В особенности если братья – погодки. Младший с досадой смотрит на старшего. Тому повезло появиться на свет раньше, он сознает свое первенство, и вот он одаривает тебя небрежным снисходительным взглядом, а может и вовсе проигнорировать. Когда бывает не в настроении, делает тебе замечания, когда благодушен, еще того хуже, он унижает тебя покровительством. И то и другое – невыносимо.
Но вот поди ж ты – этих двоих леший веревкой повязал – сразу же прочно срослись друг с дружкой, словно сиамские близнецы. Старший был ровен, ничем не подчеркивал доставшихся возрастных преимуществ и не спешил утвердить верховенство.
Разве одно только обращение, сопровождавшее детские игры, могло возбудить в младшем брате досаду. «Малыш». Но младший не возражал. К этому слову привык он сызмальства, старший его произносил с недетской нежностью – все дивились: откуда в мальчике это взрослое, даже отеческое чувство?
Они безусловно были не схожи. Старший – стремительный, склонный к действию и неожиданным поступкам, точно вобрал в себя жар и порох, отпущенный Югом им на двоих. Младшему вроде бы и не осталось выбора – надо было выращивать собственный, особый характер – неброский, сдержанный, основательный. И он, по всем статьям, преуспел – был не по возрасту рассудителен. Но так он лишь выглядел, суть была та же – стойкая, упрямая страсть.
Оба были отчетливо даровиты. Старший испытывал тягу к словесности, младшего влекло рисование. Обычно такая горячка проходит, люди, взрослея, предпочитают выбрать занятия понадежней. Но эти детские увлечения на сей раз не собирались уняться, остыть, охладиться, войти в берега. Напротив, стали делом их жизни. Возможно, этому поспособствовала и их семитская одержимость, и выплеснувшие ее наружу две бури – февральская и октябрьская, а дальше и годы Гражданской войны.
Вокруг тех обезумевших лет бурлят неукрощенные страсти. Они то смолкают, то оживают – истина все не дается в руки. Поныне не запеклась, не свернулась пролившаяся некогда кровь. Поныне правнуки побежденных, не укрощенные долгим веком, – кто на земле своих отцов, кто в дальней эмигрантской диаспоре – убеждены в правоте своих предков, по-прежнему те, кто относят себя к прямым наследникам победителей, – кто громче, кто глуше – волнуются, спорят, доказывают свою правоту.
Для братьев все было предельно ясно. С первого митинга, с первого дня. Невероятный семнадцатый год открыл собою новую эру. Он распахнул пред ними врата. Семнадцатый даровал свободу.
Как ослепительно это слово. Вообразим, что на этом свете есть с давних времен государство слов, что в нем кипят наши грешные страсти – слова, как люди, спорят за первенство, выстраивают свою иерархию – какое из них окажется главным?
О, несомненно – слово «свобода». Власть его над умами и душами несокрушима и необъятна.
Стоит лишь вслушаться, как колокольно, как триумфально оно звучит. В нем точно бродит пьянящий хмель. Свобода. Праздничная мечта. Мощь, вдохновение, темперамент. Право же, если слова – фантомы, этот фантом пленительней всех.
Те, кто решат его приручить, назвать его человеческим именем, таким, какие дают циклонам, пусть окрестят его Клеопатрой, требующей, чтоб ей платили собственной жизнью за ночь любви.
6. Автор
Мышонок. Так младший его окрестил. Бесспорно, это шутливое прозвище возникло из-за фонетической близости с именем брата. Но не только. Хотелось, возможно, и неосознанно, немного себя уравнять в правах. Дело ведь было не просто в том, кто первый появился на свете. Не год рождения, нет, та страсть, которая клокотала в старшем, определяла и все решения, и выбор действий, когда это требовалось. Она и делала его лидером.
Это не значит, что младший брат был изначально лишен амбиций. Он рано открыл в себе дар рисовальщика и вовсе не думал зарыть его в землю, был он упорен и трудолюбив.
Известны слова Александра Сергеевича о том, что поэзии необязательно быть умной дамой, – ему виднее, но сам-то анафемски был умен.
Старший из братьев не сомневался, что близкая ему сфера словесности милой наивности не допускает, – смолоду отличался напористым, цепким и озорным умом. Ум младшего был трезвым и ясным, под стать характеру – уравновешенным. Пожалуй, один дополнял другого.
Но одаренность не возвела незримой стены меж ними и миром – слишком они любили жизнь. Тем более оба на редкость здраво оценивали свои возможности и сильные и слабые стороны.
Такая зрелость в столь юном возрасте сама по себе бесценный дар, но главной удачей этих двоих было их совпадение с временем. Они совпали с воздухом века, с его направлением, даже – с ритмом.
Их молодой двадцатый век с первых же своих дней взорвал неторопливую русскую жизнь. И русская жизнь приняла вызов, стряхнула долгое оцепенение, словно решила на этот раз осуществить мечту поэта – стать птицей-тройкой, настичь историю, вернуть, наконец, ей свой давний долг.
Возможно, у многих моих друзей, вполне отрихтованных новым столетием, столь романтический энтузиазм вызовет грустную улыбку. Их можно понять – припоздавшая мудрость нам слишком дорого обошлась. Однако можно понять и тех, кому сакральная мифология поныне кружит седые головы.
Вдруг оживает в озябшей памяти тесная комната, тесный круг, еще совсем молодой Булат впервые поет нам о той далекой, о той единственной, той Гражданской, когда наши деды вступали в жизнь, согласно думали и дышали. И не было ни слов-симулякров, ни этих увертливых телодвижений в попытках отстоять свою дурость и оправдать поклонение идолам.
А оба брата – старший и младший – были счастливыми людьми. Им выпало вовремя родиться, точно понять свое назначение, не обмануть своих надежд.
Они и сами порой дивились. Старший однажды негромко сказал:
– Малыш, а ведь нам с тобой повезло.
– И в чем же это?
– А вот подумай. Словесность – это дремучий лес, и живопись твоя не шоссе. Будь мы с тобой чуток поглупей и позаносчивей, мы бы сдулись.
– Ты полагаешь?
– Я убежден. Представь себе двух юных павлинов, они напыщенны, высокомерны и распускают свои хвосты. Я уверяю себя, что рожден, чтоб сотворить какой-нибудь эпос, нынешнюю «Войну и мир». А ты грунтуешь громадный холст и лучшие, румяные годы тратишь на некий мощный сюжет – «Освобождение труда» или «Восстание народа». Дали бы мы с тобою маху.
– Ты прав, Мышонок.
– О, как я прав. Еще не раз ты в том убедишься. Мы сделали с тобой то, что надо, и выбрали то, что нам по мерке. У каждого в этом мире свой жанр, у каждого свое амплуа.
Младший покачал головой.
– Мы не актеры.
– А ты неправ. В отличие от старшего брата. И некоего господина Шекспира. Актеры, малыш. И у нас с тобою, как и у прочих млекопитающих, есть предназначенные нам роли.
7. Младший