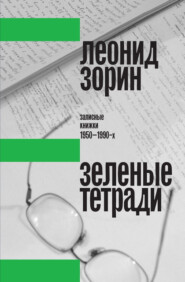По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Десятый десяток. Проза 2016–2020
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сегодня, когда я достиг рубежа, страшно подумать, почти столетия, я чувствую властную потребность взять в руку не привычную кисточку, а неуступчивое перо, которым мой брат владел так лихо.
Коль скоро странная прихоть судьбы мне подарила столь длинный век, вместивший в себя не одну мою такую бесконечную жизнь – еще и недолгую жизнь брата, я просто обязан оставить людям все то, что я запомнил о нем.
Я сознаю, что эта работа мне не по силам, не по возможностям. Слишком тут много таких деталей, в которых прячется сатана. О них по-прежнему лучше помалкивать. Я знаю много, чрезмерно много, и это знание непосильно. Все же сажусь за письменный стол.
Мне могут сказать: написано столько, что книг уже никто не читает. Ну что же, пусть будет еще одна книга. Мышонка уж нет, но я еще жив и должен сохранить для людей память о моем старшем брате.
Мне надо воскресить не события, в которых он побывал, поучаствовал, не те, которые он придумывал и – больше того – претворил в реальность. Их много, так много, всех не исчислишь. Нет, мне хотелось бы побеседовать о нем самом, о том, что в нем жило, что колотилось в его голове и жгло его бессонную душу. Сделало его тем человеком, каким он запомнился и вошел в реальную жизнь своих сограждан. О том, что однажды вдруг оборвало этот стремительный полет и что приблизило его смерть.
Знал ли он сам, что ввязался в рискованную, очень опасную игру? А разве любой из нас не пребывал на краешке всасывающей воронки? Все мы, уцелевшие люди, которым неведомо как удалось договориться с двадцатым веком, склонны себя переоценивать. Легче заканчивать марафон, думая, что нам удалось ловко перехитрить свое время. Стольких дерзнувших принять его вызов оно укротило и унесло, а мы изловчились и живы-здоровы. Разглядывайте нас с уважением.
Все это, разумеется, вздор. Нам просто повезло в лотерее – вытащили счастливый билет.
И я отчетливо сознаю – мой старший брат был не только отважней, не только значительно одаренней – он был гораздо умней меня. Но это был неистовый ум, несовместимый с благоразумием, с увертливым самоограничением, которые сохраняют жизнь.
Похоже, что у такого ума другой чекан и другой калибр. И жребий в России – тоже другой.
8. Младший
Он сызмальства мне втолковал, как плоско все то, что выглядит многозначительным.
Помню, как сдержанно он отозвался о нашем знакомом, весьма дорожившим своей репутацией мудреца:
– Глубокомысленный человек.
После чего я уже не мог воспринимать златоуста серьезно.
Тем более я был удивлен, когда однажды он мне сказал с какой-то торжественной доверительностью:
– А нам с тобой, Малыш, повезло.
Не сразу уловив перемену в его интонации, я отшутился:
– Ты абсолютно в этом уверен?
Он терпеливо мне разъяснил, что говорит вполне серьезно.
– Сам посуди, кто были мы, в сущности, когда в империи произошло это великое землетрясение? Ты – отрок, еще не забывший спазмы едва пробудившегося пола, а я обладал каким-то весом и опытом только в твоих глазах. При этом оба мы были с норовом, обоим не сиделось на месте. И что бы мы делали в этом мире с его вальяжной, неспешной поступью, с порядком, раз навсегда заведенным, и с городовым на углу? Если бы даже и удалось где-то найти свою скромную нишу, нас все равно бы всегда точило сознание чужести и второсортности. Нас с тобой спас семнадцатый год.
За годы, прожитые с ним рядом, я уж привык к тому, что Мышонок ни разу не оказался неправ, но время на дворе было грозное, о чем я осторожно напомнил.
Он усмехнулся, потом сказал:
– Не первая на волка зима. Малыш, мы очень везучие люди.
Я согласился. Все так и есть… Зря он не скажет. Значит – прорвемся.
9. Младший
Он еще с юности предрекал, что мы с ним оседлаем фортуну. В сущности, так оно и случилось. Мы убеждались неоднократно, что стали и впрямь весьма популярны.
Это заносчивое слово я отнесу, скорее, к себе. Мои политические карикатуры, как он предвидел, стали востребованными. Пожалуй, я обрел популярность. Если же речь вести о нем, такое определение бледно – он был поистине знаменит. И я бы не рискнул сопоставить его невероятную славу не только с известностью коллег, успешно трудившихся в периодике. Пожалуй, не выдержали бы сравнения весьма маститые литераторы. Лишь Горький остался бы недосягаем. Но ведь и Горький увлекся братом!
Впрочем, «увлекся» – вялое слово. Влюбился! Как мог только он один, лишь приумноживший с детских лет свое молитвенно-удивленное отношение к недюжинным людям, особенно к тем, кто служит слову.
Были периоды, когда Горький попросту не расставался с братом. Им нравилось быть вместе и рядом. Казалось, что оба они подпитывают один другого своими замыслами. Они заряжали десятки людей своим неиссякаемым порохом. И замыслы их не оставались прекрасными литературными снами – они обретали живую плоть.
Вспомните хотя бы «День мира». Они задумали проследить, чем был заполнен и как прошел один календарный день планеты.
И что же?! Им оказалась по силам и это фаустово желание стреножить время, остановить на сей раз не мгновение – день! Они это сделали. Запечатлели двенадцать часов сердцебиения нашего невероятного шара. И это был лишь один из их подвигов.
10. Младший
Женщины самозабвенно и преданно любили моего дерзкого брата. Близости с ним они добивались, даже догадываясь втайне, что с этой звонкой и буйной кровью, с этой потребностью в новых лицах и в новых бурях не совладаешь – придется трудно.
Он не был всеяден и неразборчив, скорее уступчив и отзывчив. Думаю, он и в любовь вносил эту врожденную потребность умножить запас своих впечатлений. А попросту – свой творческий пламень.
В любовной битве он оставался все тем же автором-созидателем. В нем возникал тот особый жар, который предшествует встрече с сюжетом. Женщинам вряд ли было уютно, но скучно не было никогда.
При этом он вовсе не походил на киногероя – был ловок и складен, но невысок, а по нынешним меркам, возможно, даже и низкоросл. Волнистая черная шевелюра, неправильные черты лица, но завораживающе притягательный, пронзительный, все вбирающий взгляд. А уж когда он вступал в беседу… Тут уж и вовсе не было равных. Мужчины завидовали и злились, им можно было лишь посочувствовать – нечасто встречал я на этом свете самодостаточных мудрецов, способных без судорог самолюбия мириться с чьим-либо превосходством.
Первый его брак восхитил и удивил меня одновременно. Хотя я внутренне был готов, что выбор его обычным не будет. Женщина была старше его, умелая в искусстве любви, пленительно обожженная опытом. К тому же заметная актриса, владевшая, при этом, пером. Эффектная внешность, нелегкий нрав, приперченный климатом театра. А попросту – настоящая женщина.
Он добивался ее упрямо. Со всей одержимостью и горячкой своих еще мальчишеских лет. Добился – он всегда добивался того, что хотел, того, что задумал, тем более когда жарко чувствовал. Он приучил себя не уступать. Ни своим недругам, ни соперникам, ни затруднительным обстоятельствам.
Втайне завидуя ему, я попытался не выходить из роли бесстрастного созерцателя.
– Сдается, Мышонок, тебя потянуло на терпкий запах дамской греховности. Не поскользнись на тонком льду.
Брат только покачал головой.
– Малыш, на этот раз ты ошибся, пусть мудр, аки змий, не по возрасту.
И, не тая счастливой улыбки, он дал мне бой на моей территории.
– Поверь мне, хоть это и странно звучит, я чувствую себя старше Веры. Она, при всем своем женском опыте, в сущности, большое дитя. Спрячь свою умную улыбку и вникни в то, что я говорю. Иначе она бы и не смогла стать в самом деле хорошей актрисой и быть естественной на подмостках. Суть в том, что ей свойственно простодушие, которое ей так помогает сделать придуманный мир реальным и жить по законам этого мира. Где простодушие, Малыш, которого тебе так не хватает, там и фантазия, там и творчество, а наша бескрасочная приземленность преображается странным образом в нечто крылатое и цветное.
Я произнес, разведя руками:
– Сдаюсь. Даже первая любовь не привела тебя к слепоте, она твое зрение лишь обострила, а ум вознесла на уровень мудрости. Ты видишь то, что другим не дано, и прозреваешь, что им недоступно. Поэтому я больше не дергаюсь. Уверен, однажды настанет день, и ты почувствуешь трепет наития – засядешь писать серьезную книгу.
Помедлив, он покачал головой, не слишком весело проговорил:
– Нет. Этого со мной не случится. Я сознаю свои возможности. Смирись, Малыш, твой брат – репортер, он не напишет «Войны и мира». Мой род войск – легкая кавалерия. Не вижу в этом своей беды или вины пред человечеством. Прошу написать на моей могиле: «Прохожий, здесь покоится автор, по счастью, ненаписанных книг».
Эти слова меня почему-то болезненно и тревожно царапнули. Я недовольно пробормотал:
– Долго работал над эпитафией?
Коль скоро странная прихоть судьбы мне подарила столь длинный век, вместивший в себя не одну мою такую бесконечную жизнь – еще и недолгую жизнь брата, я просто обязан оставить людям все то, что я запомнил о нем.
Я сознаю, что эта работа мне не по силам, не по возможностям. Слишком тут много таких деталей, в которых прячется сатана. О них по-прежнему лучше помалкивать. Я знаю много, чрезмерно много, и это знание непосильно. Все же сажусь за письменный стол.
Мне могут сказать: написано столько, что книг уже никто не читает. Ну что же, пусть будет еще одна книга. Мышонка уж нет, но я еще жив и должен сохранить для людей память о моем старшем брате.
Мне надо воскресить не события, в которых он побывал, поучаствовал, не те, которые он придумывал и – больше того – претворил в реальность. Их много, так много, всех не исчислишь. Нет, мне хотелось бы побеседовать о нем самом, о том, что в нем жило, что колотилось в его голове и жгло его бессонную душу. Сделало его тем человеком, каким он запомнился и вошел в реальную жизнь своих сограждан. О том, что однажды вдруг оборвало этот стремительный полет и что приблизило его смерть.
Знал ли он сам, что ввязался в рискованную, очень опасную игру? А разве любой из нас не пребывал на краешке всасывающей воронки? Все мы, уцелевшие люди, которым неведомо как удалось договориться с двадцатым веком, склонны себя переоценивать. Легче заканчивать марафон, думая, что нам удалось ловко перехитрить свое время. Стольких дерзнувших принять его вызов оно укротило и унесло, а мы изловчились и живы-здоровы. Разглядывайте нас с уважением.
Все это, разумеется, вздор. Нам просто повезло в лотерее – вытащили счастливый билет.
И я отчетливо сознаю – мой старший брат был не только отважней, не только значительно одаренней – он был гораздо умней меня. Но это был неистовый ум, несовместимый с благоразумием, с увертливым самоограничением, которые сохраняют жизнь.
Похоже, что у такого ума другой чекан и другой калибр. И жребий в России – тоже другой.
8. Младший
Он сызмальства мне втолковал, как плоско все то, что выглядит многозначительным.
Помню, как сдержанно он отозвался о нашем знакомом, весьма дорожившим своей репутацией мудреца:
– Глубокомысленный человек.
После чего я уже не мог воспринимать златоуста серьезно.
Тем более я был удивлен, когда однажды он мне сказал с какой-то торжественной доверительностью:
– А нам с тобой, Малыш, повезло.
Не сразу уловив перемену в его интонации, я отшутился:
– Ты абсолютно в этом уверен?
Он терпеливо мне разъяснил, что говорит вполне серьезно.
– Сам посуди, кто были мы, в сущности, когда в империи произошло это великое землетрясение? Ты – отрок, еще не забывший спазмы едва пробудившегося пола, а я обладал каким-то весом и опытом только в твоих глазах. При этом оба мы были с норовом, обоим не сиделось на месте. И что бы мы делали в этом мире с его вальяжной, неспешной поступью, с порядком, раз навсегда заведенным, и с городовым на углу? Если бы даже и удалось где-то найти свою скромную нишу, нас все равно бы всегда точило сознание чужести и второсортности. Нас с тобой спас семнадцатый год.
За годы, прожитые с ним рядом, я уж привык к тому, что Мышонок ни разу не оказался неправ, но время на дворе было грозное, о чем я осторожно напомнил.
Он усмехнулся, потом сказал:
– Не первая на волка зима. Малыш, мы очень везучие люди.
Я согласился. Все так и есть… Зря он не скажет. Значит – прорвемся.
9. Младший
Он еще с юности предрекал, что мы с ним оседлаем фортуну. В сущности, так оно и случилось. Мы убеждались неоднократно, что стали и впрямь весьма популярны.
Это заносчивое слово я отнесу, скорее, к себе. Мои политические карикатуры, как он предвидел, стали востребованными. Пожалуй, я обрел популярность. Если же речь вести о нем, такое определение бледно – он был поистине знаменит. И я бы не рискнул сопоставить его невероятную славу не только с известностью коллег, успешно трудившихся в периодике. Пожалуй, не выдержали бы сравнения весьма маститые литераторы. Лишь Горький остался бы недосягаем. Но ведь и Горький увлекся братом!
Впрочем, «увлекся» – вялое слово. Влюбился! Как мог только он один, лишь приумноживший с детских лет свое молитвенно-удивленное отношение к недюжинным людям, особенно к тем, кто служит слову.
Были периоды, когда Горький попросту не расставался с братом. Им нравилось быть вместе и рядом. Казалось, что оба они подпитывают один другого своими замыслами. Они заряжали десятки людей своим неиссякаемым порохом. И замыслы их не оставались прекрасными литературными снами – они обретали живую плоть.
Вспомните хотя бы «День мира». Они задумали проследить, чем был заполнен и как прошел один календарный день планеты.
И что же?! Им оказалась по силам и это фаустово желание стреножить время, остановить на сей раз не мгновение – день! Они это сделали. Запечатлели двенадцать часов сердцебиения нашего невероятного шара. И это был лишь один из их подвигов.
10. Младший
Женщины самозабвенно и преданно любили моего дерзкого брата. Близости с ним они добивались, даже догадываясь втайне, что с этой звонкой и буйной кровью, с этой потребностью в новых лицах и в новых бурях не совладаешь – придется трудно.
Он не был всеяден и неразборчив, скорее уступчив и отзывчив. Думаю, он и в любовь вносил эту врожденную потребность умножить запас своих впечатлений. А попросту – свой творческий пламень.
В любовной битве он оставался все тем же автором-созидателем. В нем возникал тот особый жар, который предшествует встрече с сюжетом. Женщинам вряд ли было уютно, но скучно не было никогда.
При этом он вовсе не походил на киногероя – был ловок и складен, но невысок, а по нынешним меркам, возможно, даже и низкоросл. Волнистая черная шевелюра, неправильные черты лица, но завораживающе притягательный, пронзительный, все вбирающий взгляд. А уж когда он вступал в беседу… Тут уж и вовсе не было равных. Мужчины завидовали и злились, им можно было лишь посочувствовать – нечасто встречал я на этом свете самодостаточных мудрецов, способных без судорог самолюбия мириться с чьим-либо превосходством.
Первый его брак восхитил и удивил меня одновременно. Хотя я внутренне был готов, что выбор его обычным не будет. Женщина была старше его, умелая в искусстве любви, пленительно обожженная опытом. К тому же заметная актриса, владевшая, при этом, пером. Эффектная внешность, нелегкий нрав, приперченный климатом театра. А попросту – настоящая женщина.
Он добивался ее упрямо. Со всей одержимостью и горячкой своих еще мальчишеских лет. Добился – он всегда добивался того, что хотел, того, что задумал, тем более когда жарко чувствовал. Он приучил себя не уступать. Ни своим недругам, ни соперникам, ни затруднительным обстоятельствам.
Втайне завидуя ему, я попытался не выходить из роли бесстрастного созерцателя.
– Сдается, Мышонок, тебя потянуло на терпкий запах дамской греховности. Не поскользнись на тонком льду.
Брат только покачал головой.
– Малыш, на этот раз ты ошибся, пусть мудр, аки змий, не по возрасту.
И, не тая счастливой улыбки, он дал мне бой на моей территории.
– Поверь мне, хоть это и странно звучит, я чувствую себя старше Веры. Она, при всем своем женском опыте, в сущности, большое дитя. Спрячь свою умную улыбку и вникни в то, что я говорю. Иначе она бы и не смогла стать в самом деле хорошей актрисой и быть естественной на подмостках. Суть в том, что ей свойственно простодушие, которое ей так помогает сделать придуманный мир реальным и жить по законам этого мира. Где простодушие, Малыш, которого тебе так не хватает, там и фантазия, там и творчество, а наша бескрасочная приземленность преображается странным образом в нечто крылатое и цветное.
Я произнес, разведя руками:
– Сдаюсь. Даже первая любовь не привела тебя к слепоте, она твое зрение лишь обострила, а ум вознесла на уровень мудрости. Ты видишь то, что другим не дано, и прозреваешь, что им недоступно. Поэтому я больше не дергаюсь. Уверен, однажды настанет день, и ты почувствуешь трепет наития – засядешь писать серьезную книгу.
Помедлив, он покачал головой, не слишком весело проговорил:
– Нет. Этого со мной не случится. Я сознаю свои возможности. Смирись, Малыш, твой брат – репортер, он не напишет «Войны и мира». Мой род войск – легкая кавалерия. Не вижу в этом своей беды или вины пред человечеством. Прошу написать на моей могиле: «Прохожий, здесь покоится автор, по счастью, ненаписанных книг».
Эти слова меня почему-то болезненно и тревожно царапнули. Я недовольно пробормотал:
– Долго работал над эпитафией?