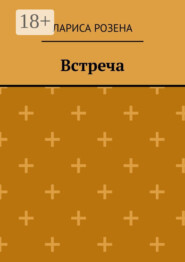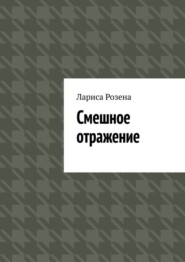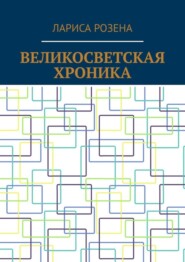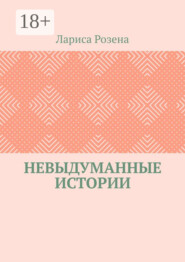По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Се, стою у двери и стучу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он, кажется, сочинил ей стихи:
Растворяться в твоей душе,
Плавать в ней в беспредельном просторе…
Счастья высшего нет на земле…
Ведь душа твоя – это море!
Никогда не забудет и страшный приговор… Тогда супруга по несчастью находилась в клинике. Он пришел к ней, как всегда поддержать, успокоить. И она вдруг протянула ему маленький листок, исписанный мелкими буквами: «Любимый, я умираю. Но любовь к тебе, такая хрупкая и беззащитная – жива. И она бьется во мне с новой силой…
Прости, прости за минуты страдания, которые, возможно, я причинила тебе по неведению. На умирающую не обижаются. Я скоро усну. А моя любовь перейдет в ласки ветра, в шелест звезд, в тайну и очарование ночи. Они будут поддерживать тебя в грустные минуты и говорить, чтоб ты жил, жил, жил. Мое чувство растечется необъятной красотой, будет радовать и окрылять тебя.
Улыбнись, любимый. В каждой частичке сущего – буду я, незримая. И еще бережнее, нежнее стану любить тебя и окружать заботой. Прощай!».
Задумался, стараясь справиться с нахлынувшими переживаниями.
Боль утраты заставляла переосмыслить прошлое. Да, он не мало повидал, пережил, перечувствовал. И не есть ли все – суета, как написано в Библии? Медленно подошел к книжному шкафу, кропотливо перекладывая попадавшиеся под руки книги. Достал Библию в тяжелом кожаном переплете, тисненом золотом. Листая ее, направился к массивному, инкрустированному перламутром, письменному столу. Углубился в чтение: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом… Кто-как мудрый понимает значение вещей… Опускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». (Еккл.1,2;3,1:8,1). Читал долго, увлеченно, старательно возвращаясь к непонятным местам. Устал, откинулся на спинку кожаного тяжелого кресла. Обхватив голову руками и опершись о стол, замер. Сколько горькой мудрости, проникновенной чистоты и благородства было разлито в лице…
«Спрашивают все – какая дорога ведет в храм? Что приводит человека к Богу? Горе, наверное, горе… Вот она, эта дорога по милости Божией и мне открылась…»
Успокоился. И неудержимо резким порывом оказался у телефонного аппарата:
– Алло, справочная!
– Вас слушают!
– Пожалуйста, скажите телефон Свято Даниловского монастыря…
БЛАЖЕННЫЕ БРАТЬЯ
Жили да были в далеком заброшенном селе Струженка два брата простеца Иванушка и Николушка. А с ними – матушка их Ульянушка, добрая, мягкая. О-о-о-ох, как тяжело одной женщине на Руси поднимать мужичков-сыночков. Да еще-то в глухой деревеньке, без твердой опоры. Сама и на огороде, и у плиты. А ребятишки на редкость резвые, шаловливые. Отругает, бывало, за проказы, накричит, а зайдет в каморочку, да и заплачет, запричитает:
– Зачем я сиротин ругаю? Прости глупую, Господи!
Как устоишь тут перед такой незлобивостью? Однажды в очень холодную зиму не хватило у них дровишек, печь не топлена, холодно, люто. Детишки навернули на себя все, что могли. И превратились в старые валенки, не поймешь, где глаз, где рот. Тут Николенька и исчезни. Час нет, второй. Пришел с шумом:
– Мамань, топи печь, дровами разжился…
– Где взял-то?
– Да собрал.
Не сообразит матушка Ульяна, радоваться или плакать. А на следующий день еле приполз домой Николушка в синяках весь, будто свекольным соком разрисованный. Мать закричала, а он пробурчал под нос:
– Нечего горланить! Дрова-то не задаром брал, за лупку…
Улыбнулась Ульяна, ничего не сказала. Только лицо вместо белого пепельным стало, да глаза уже более не смотрели прямо.
Но не всегда были горькие дни. Соседи пожалели и к Рождеству, когда есть уже было нечего, гусем поджаристым угостили. Вот был праздник у ребят! Они не могли дождаться обеда. И когда матушка усадила за стол, стали так усердно молиться Господу, что она невольно развеселилась:
– Ешьте сколько хотите.
– Ох, мамочка, спасибо!
Корочка, блестящая, заманчиво волнующая, переливалась нежно-коричневым очарованием. Она заполняла собой все, необыкновенно ароматная, волшебная. Да и мясо было на удивление вкусным. Казалось, смысл жизни в этот миг заключался в знакомстве с кусочком, который положили в миску Николаю. Он хрустел шкуркой, заглатывая сок ароматной пищи, шумно сопел, всем существом показывая свое счастье.
Иванушка рассмеялся:
– Мама, а паровозик-то далеко летит, парами пыхтит, если жару не прибавим, не поспеем.
Ульянушка задумалась. Кусок в рот не шел: не отнимать же у детей последнее, даровое? Сынишка подошел к ней с гусиной ножкой, погладил любовно по плечу и протянул:
– Ну, попробуй разок! Вкус-но!
– Спасибо, родной, не хочется…
Вот так и росли несчастные, а может, и счастливые дети. Все блаженненькие у Самого Господа на особом счету. Любит он их, жалеет, оберегает от злых людей и горьких обстоятельств. Так и жили, не поймешь – откуда сыты, не сообразишь – где одеты. Учиться в школе они не смогли, осилили только 3 класса. А больше – нет. Ну, заколоти их, а таблицу умножения понять и запомнить не могут. Иванушка даже плакал во сне:
– Не могу, не буду, не понимаю.
И матушка Ульяна отступилась от них:
– Видно так Богу угодно, – пригорюнилась она, махнув рукой.
Примечать стали, что хоть дети и переростки, а играют с малышами, смеются, говорят, словно и сами мальцы юные. Смекнули в чем дело: или Бог обделил, или отметил. Взглянет, бывало, Иванушка на кого-то и скажет что-то вроде про себя, а завтра или через месяц у человека-то все и сбудется…
Подросли, нигде не работали, только если подрабатывали за тарелку супа, кусок хлеба. Что давали с собой унести, приносили домой, делили на всех.
Вскоре Ульяна распрощалась с миром, оставив деток-переростков горевать свою долю одних.
Неподалеку, в деревне Кромово, церквушку поставили. И стали братья ходить туда и, будто Ангелы, молиться. Шумит, бывало, народишко. А они-то стоят у амвона, с места не двинутся, смотрят на иконы, словно Бога зрят, и улыбаются. Ни дать, ни взять – дети Божьи. Не понимал никто – что за тайну в себе носили они. Но догадывались – блаженное юродство – выше всех подвигов у Господа. Ванечка маленького роста, худенький воробушек, заросший щетиной, точно щеткой, глядел всегда прямо, ясно, не моргая, и, здороваясь первым, радостно протягивал руку со словами:
– Здравствуй, друг!
Умер он внезапно. Шел из одного села в другое. Уснул на пригорке и забрали его незлобивую душеньку Ангелочки. Нашли – лежит, улыбается, как бы сон чудный видит. Так с этой небесной улыбкой к Богу душа и отлетела. А кругом ромашки цветут, на длинных, тонких ножках, шейками покачивают, будто сочувствуют. Запах меда, клевера голову пьянит, жук майский лапками перебирает, и кажется, не умер Иванушка, а уснул. Незаметно, тихо, целомудренно, как и жил.
Похоронили братца, после занемог и Колюшка. Жалостливые сельчане старались лечить его. Да где там. Лежит на лавочке, молчит, тоскует, стало быть, по своим. Но удивительное дело, почти перед смертью сходил с Божьей помощью в храм соседнего села, причастился.
И не стало Николушки. И вновь добрые люди нашлись и похоронили. Так трава вешняя взойдет ранней весной, попитается летними дождями, погреется теплым солнышком. А к осени – глядишь, и нет ее, в житницу попала…
Стали примечать сельчане: кто посидит на могилке братьев, вроде здоровей становится, печали уходят, заботы тяжелые решаются. Начали чаще к ним ходить, вспоминать с нежностью, просить у Бога через них защиту. Так тропочка и не зарастала, ведущая из села к братцам на кладбище. Может, Господь по их молитвам и давал благодать людям, а может, зло наше уходило, и души, уставшие от жизненных бурь, искали примирения с Самим Господом…
ДОБРО ДЕЛАТЬ ТРУДНО
Очень жалостливая, пылкая, сострадательная, она старалась при виде несчастного бедного человека помочь, чем можно. Самой едва хватало средств, поддерживали мама, приятели, все, кто видел ее нужду. Но она об этом не раздумывала. Вроде птички-невелички – только жила, пела, радовалась и радовала… Никогда деньги не считала. Кончались и откуда-то снова с Божьей помощью брались. И она не догадывалась – Бог дает за незлобие. Бывало и горько становилось после помощи – разочаровывалась. Но это ее не останавливало. Шла как-то со своей приятельницей Мариной на базар. Ранняя весна, словно капризная девчонка, то улыбнется сквозь солнышко, растопит снег в лужи, а то беспричинно загрустит, нахмурится. Холодная жгучесть налетит, зябкость охватит, неприветливость. Плелись, поеживаясь. Кругом слякоть, обманчивая оттепель, бездушный ветер поддувает в бока.
«Именно в такое время года писал свою знаменитую картину „Оттепель“ художник Васильев. Решил подсмотреть тайну пробуждающейся весны. Жил за городом в ветхой времяночке, следил за каждым изменяющимся оттенком. Простудился, заболел и погиб… Вот как оно бывает! Но картина получилась на редкость поэтичной, правдоподобной… Дорого платит художник за познание…» – задумалась Нина.
Растворяться в твоей душе,
Плавать в ней в беспредельном просторе…
Счастья высшего нет на земле…
Ведь душа твоя – это море!
Никогда не забудет и страшный приговор… Тогда супруга по несчастью находилась в клинике. Он пришел к ней, как всегда поддержать, успокоить. И она вдруг протянула ему маленький листок, исписанный мелкими буквами: «Любимый, я умираю. Но любовь к тебе, такая хрупкая и беззащитная – жива. И она бьется во мне с новой силой…
Прости, прости за минуты страдания, которые, возможно, я причинила тебе по неведению. На умирающую не обижаются. Я скоро усну. А моя любовь перейдет в ласки ветра, в шелест звезд, в тайну и очарование ночи. Они будут поддерживать тебя в грустные минуты и говорить, чтоб ты жил, жил, жил. Мое чувство растечется необъятной красотой, будет радовать и окрылять тебя.
Улыбнись, любимый. В каждой частичке сущего – буду я, незримая. И еще бережнее, нежнее стану любить тебя и окружать заботой. Прощай!».
Задумался, стараясь справиться с нахлынувшими переживаниями.
Боль утраты заставляла переосмыслить прошлое. Да, он не мало повидал, пережил, перечувствовал. И не есть ли все – суета, как написано в Библии? Медленно подошел к книжному шкафу, кропотливо перекладывая попадавшиеся под руки книги. Достал Библию в тяжелом кожаном переплете, тисненом золотом. Листая ее, направился к массивному, инкрустированному перламутром, письменному столу. Углубился в чтение: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом… Кто-как мудрый понимает значение вещей… Опускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». (Еккл.1,2;3,1:8,1). Читал долго, увлеченно, старательно возвращаясь к непонятным местам. Устал, откинулся на спинку кожаного тяжелого кресла. Обхватив голову руками и опершись о стол, замер. Сколько горькой мудрости, проникновенной чистоты и благородства было разлито в лице…
«Спрашивают все – какая дорога ведет в храм? Что приводит человека к Богу? Горе, наверное, горе… Вот она, эта дорога по милости Божией и мне открылась…»
Успокоился. И неудержимо резким порывом оказался у телефонного аппарата:
– Алло, справочная!
– Вас слушают!
– Пожалуйста, скажите телефон Свято Даниловского монастыря…
БЛАЖЕННЫЕ БРАТЬЯ
Жили да были в далеком заброшенном селе Струженка два брата простеца Иванушка и Николушка. А с ними – матушка их Ульянушка, добрая, мягкая. О-о-о-ох, как тяжело одной женщине на Руси поднимать мужичков-сыночков. Да еще-то в глухой деревеньке, без твердой опоры. Сама и на огороде, и у плиты. А ребятишки на редкость резвые, шаловливые. Отругает, бывало, за проказы, накричит, а зайдет в каморочку, да и заплачет, запричитает:
– Зачем я сиротин ругаю? Прости глупую, Господи!
Как устоишь тут перед такой незлобивостью? Однажды в очень холодную зиму не хватило у них дровишек, печь не топлена, холодно, люто. Детишки навернули на себя все, что могли. И превратились в старые валенки, не поймешь, где глаз, где рот. Тут Николенька и исчезни. Час нет, второй. Пришел с шумом:
– Мамань, топи печь, дровами разжился…
– Где взял-то?
– Да собрал.
Не сообразит матушка Ульяна, радоваться или плакать. А на следующий день еле приполз домой Николушка в синяках весь, будто свекольным соком разрисованный. Мать закричала, а он пробурчал под нос:
– Нечего горланить! Дрова-то не задаром брал, за лупку…
Улыбнулась Ульяна, ничего не сказала. Только лицо вместо белого пепельным стало, да глаза уже более не смотрели прямо.
Но не всегда были горькие дни. Соседи пожалели и к Рождеству, когда есть уже было нечего, гусем поджаристым угостили. Вот был праздник у ребят! Они не могли дождаться обеда. И когда матушка усадила за стол, стали так усердно молиться Господу, что она невольно развеселилась:
– Ешьте сколько хотите.
– Ох, мамочка, спасибо!
Корочка, блестящая, заманчиво волнующая, переливалась нежно-коричневым очарованием. Она заполняла собой все, необыкновенно ароматная, волшебная. Да и мясо было на удивление вкусным. Казалось, смысл жизни в этот миг заключался в знакомстве с кусочком, который положили в миску Николаю. Он хрустел шкуркой, заглатывая сок ароматной пищи, шумно сопел, всем существом показывая свое счастье.
Иванушка рассмеялся:
– Мама, а паровозик-то далеко летит, парами пыхтит, если жару не прибавим, не поспеем.
Ульянушка задумалась. Кусок в рот не шел: не отнимать же у детей последнее, даровое? Сынишка подошел к ней с гусиной ножкой, погладил любовно по плечу и протянул:
– Ну, попробуй разок! Вкус-но!
– Спасибо, родной, не хочется…
Вот так и росли несчастные, а может, и счастливые дети. Все блаженненькие у Самого Господа на особом счету. Любит он их, жалеет, оберегает от злых людей и горьких обстоятельств. Так и жили, не поймешь – откуда сыты, не сообразишь – где одеты. Учиться в школе они не смогли, осилили только 3 класса. А больше – нет. Ну, заколоти их, а таблицу умножения понять и запомнить не могут. Иванушка даже плакал во сне:
– Не могу, не буду, не понимаю.
И матушка Ульяна отступилась от них:
– Видно так Богу угодно, – пригорюнилась она, махнув рукой.
Примечать стали, что хоть дети и переростки, а играют с малышами, смеются, говорят, словно и сами мальцы юные. Смекнули в чем дело: или Бог обделил, или отметил. Взглянет, бывало, Иванушка на кого-то и скажет что-то вроде про себя, а завтра или через месяц у человека-то все и сбудется…
Подросли, нигде не работали, только если подрабатывали за тарелку супа, кусок хлеба. Что давали с собой унести, приносили домой, делили на всех.
Вскоре Ульяна распрощалась с миром, оставив деток-переростков горевать свою долю одних.
Неподалеку, в деревне Кромово, церквушку поставили. И стали братья ходить туда и, будто Ангелы, молиться. Шумит, бывало, народишко. А они-то стоят у амвона, с места не двинутся, смотрят на иконы, словно Бога зрят, и улыбаются. Ни дать, ни взять – дети Божьи. Не понимал никто – что за тайну в себе носили они. Но догадывались – блаженное юродство – выше всех подвигов у Господа. Ванечка маленького роста, худенький воробушек, заросший щетиной, точно щеткой, глядел всегда прямо, ясно, не моргая, и, здороваясь первым, радостно протягивал руку со словами:
– Здравствуй, друг!
Умер он внезапно. Шел из одного села в другое. Уснул на пригорке и забрали его незлобивую душеньку Ангелочки. Нашли – лежит, улыбается, как бы сон чудный видит. Так с этой небесной улыбкой к Богу душа и отлетела. А кругом ромашки цветут, на длинных, тонких ножках, шейками покачивают, будто сочувствуют. Запах меда, клевера голову пьянит, жук майский лапками перебирает, и кажется, не умер Иванушка, а уснул. Незаметно, тихо, целомудренно, как и жил.
Похоронили братца, после занемог и Колюшка. Жалостливые сельчане старались лечить его. Да где там. Лежит на лавочке, молчит, тоскует, стало быть, по своим. Но удивительное дело, почти перед смертью сходил с Божьей помощью в храм соседнего села, причастился.
И не стало Николушки. И вновь добрые люди нашлись и похоронили. Так трава вешняя взойдет ранней весной, попитается летними дождями, погреется теплым солнышком. А к осени – глядишь, и нет ее, в житницу попала…
Стали примечать сельчане: кто посидит на могилке братьев, вроде здоровей становится, печали уходят, заботы тяжелые решаются. Начали чаще к ним ходить, вспоминать с нежностью, просить у Бога через них защиту. Так тропочка и не зарастала, ведущая из села к братцам на кладбище. Может, Господь по их молитвам и давал благодать людям, а может, зло наше уходило, и души, уставшие от жизненных бурь, искали примирения с Самим Господом…
ДОБРО ДЕЛАТЬ ТРУДНО
Очень жалостливая, пылкая, сострадательная, она старалась при виде несчастного бедного человека помочь, чем можно. Самой едва хватало средств, поддерживали мама, приятели, все, кто видел ее нужду. Но она об этом не раздумывала. Вроде птички-невелички – только жила, пела, радовалась и радовала… Никогда деньги не считала. Кончались и откуда-то снова с Божьей помощью брались. И она не догадывалась – Бог дает за незлобие. Бывало и горько становилось после помощи – разочаровывалась. Но это ее не останавливало. Шла как-то со своей приятельницей Мариной на базар. Ранняя весна, словно капризная девчонка, то улыбнется сквозь солнышко, растопит снег в лужи, а то беспричинно загрустит, нахмурится. Холодная жгучесть налетит, зябкость охватит, неприветливость. Плелись, поеживаясь. Кругом слякоть, обманчивая оттепель, бездушный ветер поддувает в бока.
«Именно в такое время года писал свою знаменитую картину „Оттепель“ художник Васильев. Решил подсмотреть тайну пробуждающейся весны. Жил за городом в ветхой времяночке, следил за каждым изменяющимся оттенком. Простудился, заболел и погиб… Вот как оно бывает! Но картина получилась на редкость поэтичной, правдоподобной… Дорого платит художник за познание…» – задумалась Нина.