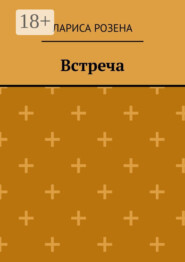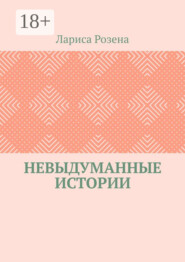По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Се, стою у двери и стучу
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лучистые глаза подруги отсвечивали прозрачной синевой. В них весело отражались блики от лимонного абажура, бухарского ковра, висевшего над диваном, полупрозрачных чашечек с вензелями… Писательница слушала и радовалась тем спокойствием, которое навевают серебристые мягкие сумерки.
– И вот когда мы остановились в одном из домов… Ах, я уже и забыла, с чего началось наше знакомство со священником!…
Помню яркую зелень нежной, сочной травы вокруг, скрип мохнатых, неповоротливых деревьев и ослепительную бирюзу неба… Супруг собирает интересные случаи из жизни священства, а я? Просто живу, люблю, дышу, улыбаюсь, словно ясный весенний день, безоблачный и легкий-легкий, как дыхание теплого воздуха…
Гостья посмотрела с интересом в глаза говорившей – серьезная, благородная дама. Как же она могла быть легкомысленной? Та поняла ее удивление:
– Так Вы думаете, молодая женщина должна всегда быть очень серьезной, собранной, деловой и…
– Ах, нет. Пусть она будет такой, какой ее создал Бог…
– О, Вы понимаете меня!
– Ну, я же сама – женщина!
– Продолжаю. Воздух, точно парное молоко, поил терпкостью жизни. И вот впитывая раздолье, свежесть деревни, вырвавшись из оков города, я только и делала, что радовалась и ликовала.
– Но и работали. Вы же были стенографисткой у своего профессора…
– Безусловно. Не помню, за ужином или где-то на прогулке, услышали мы эту историю. Вам действительно интересно?
– Очень.
– Священник, поведавший ее, был тогда относительно молодым, здоровым мужчиной. Но представить его юным не могла. Медленно, собираясь с мыслями, он рассказал следующее:
– Я только окончил Воронежский университет, и началась война. Сразу же ушел добровольцем на фронт. Был ранен, попал в окружение. Шли с другом по лесу, старались прорваться. Устали. Свалились под березой и уснули. Вдруг слышу сквозь сон:
– Вставай, нельзя спать, вставай!
Оглянулся спросонок – никого, и вновь задремал.
– Вставай! – раздался тот же голос, – нельзя здесь спать! – и так до трех раз. Не до шуток. Вскочил, как ужаленный, и друга пытался разбудить, в ответ:
– Оставь, спать хочу!
Я отбежал и сразу раздался оглушительный взрыв. Клочья земли, брызгая фонтаном, облепили лицо, руки, телогрейку. Когда пришел в себя, увидел: ни березки, ни друга. Одна воронка сияет, да уцелевшая ромашка головкой испуганно покачивает. С тех пор дал себе обещание стать священником…
Вскоре попал в Чеглы. Село было бедное, разрушенное, как бы рыдающее над своей разорённостью. Старался помочь, кому, чем мог. Люди, словно кроты, жили в землянках. Понемногу стали отстраиваться. Мне приходилось нелегко. Спал по нескольку часов в день. И, будто дятел, сам стучал и стучал клювом-молотком по деревянным настилам. Достраивали прекрасный храм, поднимали колокола. Они не шли наверх. Тянем, никак не получается. Годы военные. Молодые сыновья на фронте. Дома – старики со снохами. А с них спрос не велик. Устали. Колокола не поднимались наверх и все тут! Выкрикнул:
– Снохачи, в сторону, остальным остаться и помогать!
Неожиданно рывком отошли три человека, напоминавшие скользкие замшелые грибы. И колокола пошли!
Я сам побледнел, покрылся бисером пота. Растерялся, будто в чем-то провинился. Боже! Неужели такое возможно? Какой грех-то – снохачество! Вот она страшная сторона жизни! Вытер испарину, тряхнул головой, чтоб успокоиться. И… застыл, пораженный чудом Божьим…
– И Вы знаете, – обратилась ко мне хозяйка, – я сама опешила – вот как лукавый людей крутит!
– О, какой случай! – вырвалось у Татьяны в ответ на рассказ хозяйки.
Она, стройная, интеллигентная, в вязаных свитере и юбке, грустно улыбнулась:
– Еще не то – узнаете.
Сколько ей лет? Много. Но разве скажешь по ней? Эти благородные, чистые искренние глаза, матовая кожа, блеск и живость ума, душа чистая, как свежий снег…
Собеседница как-то доверительно улыбнулась, вздохнула и вновь стала потчевать изматывающе вкусным чаем… Когда допили, она принесла удивительную рукопись. Это были записки священников и еще каких-то посторонних лиц. Здесь они доподлинно и приводятся.
ВЕЧЕР ИЗ ЖИЗНИ ВЫДАЮЩЕЙСЯЖЕНЩИНЫ
Поэзия сумерек, позднего вечера, ночи. Печальные темы ее. Она любит их за невысказанную грусть, боль увядания, сентиментальную и безответную незащищенность. Ей нравятся разливы дождя, точно водянистой акварелью, расписывающие стекла окон, заманчивые огни оживающих зданий, они являются для нее маяками жизни. Дорого все эфемерное, хрупко-исчезающее. Сколько утонченно – изысканной поэзии в сумерках вечера и ночи.
Почему-то взгрустнулось. Когда остается одна, читает, мечтает, слушает музыку или играет сама. Тайно любит все русское… Русское… А живет далеко от родной России… Каприз судьбы. Включила магнитофон, старые записи. Музыка «Лебединого озера» Чайковского – упоительно полнокровна и прекрасна… Да, он сентиментален, этот Петр Ильич. И хочется сказать ему спасибо, хоть его уже давно нет в живых, за его совершенную, милую, родную сентиментальность и напевность… О, сколько кантиленности в русской классике: Глинке, Римском-Корсакове, Калиникове, Мусоргском, Рахманинове…
Смахнула выбившуюся прядку волос, задумалась. Когда никого нет рядом, она щеголяет в длинном русском сарафане с вышитой батистовой рубахой. Поглаживая волосы, рассеяно подошла к зеркалу. Красивая, грустная женщина с удивительно мягким глубоким взглядом. Старинный сарафан был к лицу, преображал, будто она становилась простой девушкой, не знающей тягот, забот, славы, почестей и… грусти…
И кажется ей – она в России… А сегодня вышла в поле к своему суженному в ярком наряде, с кокошником на голове, длинными-предлинными серьгами, множеством бус на шее. Есть даже монисто. Только что испеченный ржаной хлеб пахнет так вкусно, что хочется отломить и попробовать. Парное коровье молоко в глиняном кувшинчике, будто дымится…
Нет ни самого высокого титула, ни парадных нарядов, ни дорогих украшений. В мягких сафьяновых сапожках, красном длинном сарафане она похожа на женщин с полотен художника Тропинина. Чистые спокойные линии, ясные, умиротворенные глаза, лучистые и напевные…
Светит солнце, перекликаются перепела во ржи. Идти легко и приятно. Она весело поет что-то о доле русской женщины, о любимом, о своей дорогой России. Капельки бисеринок обрамили лицо. Замерла, поставив ношу на землю. Обмахнула лицо рукавом кипельно-белой, разукрашенной гладью, рубахи. Изумилась гомону птиц…
Он сам подошел к ней, завидев издали. Молодо блестя глазами, поднял хлеб с молоком. Устроились прямо в траве, расстелив льняную скатерть. Ел с аппетитом. А она – любовалась.
Душа заходилась от счастья…
Эх, разве перескажешь красоту этих русских полей, солнца, воздуха, сочно-нежной зелени?
«Милое Подмосковье! Как люблю я тебя мягким, тихим летом, разжиженным серебряными дождями, робким чистым солнцем, холодной водой в прудах. И воздух там острее и мысли свободнее, и сердце поет, как соловей на свободе – в полях, дубравах, рощах…
А если парит жаркое лето? Солнце, преломляясь в зелени, отсвечивает ста тысячами жарких солнц. Зелень, отражаемая воздухом, разлетается с еще большим количеством света и жаркости. И пламенная, изумрудно-праздничная яркость мощными потоками счастья множит саму жизнь…»
Какие-то неясные звуки вернули к действительности. Нехотя сдернула дорогие сердцу наряды… Убрала. В руках оказалось «Лето Господне» любимого Шмелева. Не читалось. Что это? Потянулась к листку. Верлибр[1 - Не срифмованное стихотворение.].Чей он, откуда? Всмотрелась:
Ты – самая знатная матрона,
Нет тебя краше, образованней и богаче.
Но я, разорившийся патриций,
Промотавший свое состояние
На веселье, вино и друзей,
Обожаю тебя!
Мы – неравны.
Разве ночь может любить день?
– И вот когда мы остановились в одном из домов… Ах, я уже и забыла, с чего началось наше знакомство со священником!…
Помню яркую зелень нежной, сочной травы вокруг, скрип мохнатых, неповоротливых деревьев и ослепительную бирюзу неба… Супруг собирает интересные случаи из жизни священства, а я? Просто живу, люблю, дышу, улыбаюсь, словно ясный весенний день, безоблачный и легкий-легкий, как дыхание теплого воздуха…
Гостья посмотрела с интересом в глаза говорившей – серьезная, благородная дама. Как же она могла быть легкомысленной? Та поняла ее удивление:
– Так Вы думаете, молодая женщина должна всегда быть очень серьезной, собранной, деловой и…
– Ах, нет. Пусть она будет такой, какой ее создал Бог…
– О, Вы понимаете меня!
– Ну, я же сама – женщина!
– Продолжаю. Воздух, точно парное молоко, поил терпкостью жизни. И вот впитывая раздолье, свежесть деревни, вырвавшись из оков города, я только и делала, что радовалась и ликовала.
– Но и работали. Вы же были стенографисткой у своего профессора…
– Безусловно. Не помню, за ужином или где-то на прогулке, услышали мы эту историю. Вам действительно интересно?
– Очень.
– Священник, поведавший ее, был тогда относительно молодым, здоровым мужчиной. Но представить его юным не могла. Медленно, собираясь с мыслями, он рассказал следующее:
– Я только окончил Воронежский университет, и началась война. Сразу же ушел добровольцем на фронт. Был ранен, попал в окружение. Шли с другом по лесу, старались прорваться. Устали. Свалились под березой и уснули. Вдруг слышу сквозь сон:
– Вставай, нельзя спать, вставай!
Оглянулся спросонок – никого, и вновь задремал.
– Вставай! – раздался тот же голос, – нельзя здесь спать! – и так до трех раз. Не до шуток. Вскочил, как ужаленный, и друга пытался разбудить, в ответ:
– Оставь, спать хочу!
Я отбежал и сразу раздался оглушительный взрыв. Клочья земли, брызгая фонтаном, облепили лицо, руки, телогрейку. Когда пришел в себя, увидел: ни березки, ни друга. Одна воронка сияет, да уцелевшая ромашка головкой испуганно покачивает. С тех пор дал себе обещание стать священником…
Вскоре попал в Чеглы. Село было бедное, разрушенное, как бы рыдающее над своей разорённостью. Старался помочь, кому, чем мог. Люди, словно кроты, жили в землянках. Понемногу стали отстраиваться. Мне приходилось нелегко. Спал по нескольку часов в день. И, будто дятел, сам стучал и стучал клювом-молотком по деревянным настилам. Достраивали прекрасный храм, поднимали колокола. Они не шли наверх. Тянем, никак не получается. Годы военные. Молодые сыновья на фронте. Дома – старики со снохами. А с них спрос не велик. Устали. Колокола не поднимались наверх и все тут! Выкрикнул:
– Снохачи, в сторону, остальным остаться и помогать!
Неожиданно рывком отошли три человека, напоминавшие скользкие замшелые грибы. И колокола пошли!
Я сам побледнел, покрылся бисером пота. Растерялся, будто в чем-то провинился. Боже! Неужели такое возможно? Какой грех-то – снохачество! Вот она страшная сторона жизни! Вытер испарину, тряхнул головой, чтоб успокоиться. И… застыл, пораженный чудом Божьим…
– И Вы знаете, – обратилась ко мне хозяйка, – я сама опешила – вот как лукавый людей крутит!
– О, какой случай! – вырвалось у Татьяны в ответ на рассказ хозяйки.
Она, стройная, интеллигентная, в вязаных свитере и юбке, грустно улыбнулась:
– Еще не то – узнаете.
Сколько ей лет? Много. Но разве скажешь по ней? Эти благородные, чистые искренние глаза, матовая кожа, блеск и живость ума, душа чистая, как свежий снег…
Собеседница как-то доверительно улыбнулась, вздохнула и вновь стала потчевать изматывающе вкусным чаем… Когда допили, она принесла удивительную рукопись. Это были записки священников и еще каких-то посторонних лиц. Здесь они доподлинно и приводятся.
ВЕЧЕР ИЗ ЖИЗНИ ВЫДАЮЩЕЙСЯЖЕНЩИНЫ
Поэзия сумерек, позднего вечера, ночи. Печальные темы ее. Она любит их за невысказанную грусть, боль увядания, сентиментальную и безответную незащищенность. Ей нравятся разливы дождя, точно водянистой акварелью, расписывающие стекла окон, заманчивые огни оживающих зданий, они являются для нее маяками жизни. Дорого все эфемерное, хрупко-исчезающее. Сколько утонченно – изысканной поэзии в сумерках вечера и ночи.
Почему-то взгрустнулось. Когда остается одна, читает, мечтает, слушает музыку или играет сама. Тайно любит все русское… Русское… А живет далеко от родной России… Каприз судьбы. Включила магнитофон, старые записи. Музыка «Лебединого озера» Чайковского – упоительно полнокровна и прекрасна… Да, он сентиментален, этот Петр Ильич. И хочется сказать ему спасибо, хоть его уже давно нет в живых, за его совершенную, милую, родную сентиментальность и напевность… О, сколько кантиленности в русской классике: Глинке, Римском-Корсакове, Калиникове, Мусоргском, Рахманинове…
Смахнула выбившуюся прядку волос, задумалась. Когда никого нет рядом, она щеголяет в длинном русском сарафане с вышитой батистовой рубахой. Поглаживая волосы, рассеяно подошла к зеркалу. Красивая, грустная женщина с удивительно мягким глубоким взглядом. Старинный сарафан был к лицу, преображал, будто она становилась простой девушкой, не знающей тягот, забот, славы, почестей и… грусти…
И кажется ей – она в России… А сегодня вышла в поле к своему суженному в ярком наряде, с кокошником на голове, длинными-предлинными серьгами, множеством бус на шее. Есть даже монисто. Только что испеченный ржаной хлеб пахнет так вкусно, что хочется отломить и попробовать. Парное коровье молоко в глиняном кувшинчике, будто дымится…
Нет ни самого высокого титула, ни парадных нарядов, ни дорогих украшений. В мягких сафьяновых сапожках, красном длинном сарафане она похожа на женщин с полотен художника Тропинина. Чистые спокойные линии, ясные, умиротворенные глаза, лучистые и напевные…
Светит солнце, перекликаются перепела во ржи. Идти легко и приятно. Она весело поет что-то о доле русской женщины, о любимом, о своей дорогой России. Капельки бисеринок обрамили лицо. Замерла, поставив ношу на землю. Обмахнула лицо рукавом кипельно-белой, разукрашенной гладью, рубахи. Изумилась гомону птиц…
Он сам подошел к ней, завидев издали. Молодо блестя глазами, поднял хлеб с молоком. Устроились прямо в траве, расстелив льняную скатерть. Ел с аппетитом. А она – любовалась.
Душа заходилась от счастья…
Эх, разве перескажешь красоту этих русских полей, солнца, воздуха, сочно-нежной зелени?
«Милое Подмосковье! Как люблю я тебя мягким, тихим летом, разжиженным серебряными дождями, робким чистым солнцем, холодной водой в прудах. И воздух там острее и мысли свободнее, и сердце поет, как соловей на свободе – в полях, дубравах, рощах…
А если парит жаркое лето? Солнце, преломляясь в зелени, отсвечивает ста тысячами жарких солнц. Зелень, отражаемая воздухом, разлетается с еще большим количеством света и жаркости. И пламенная, изумрудно-праздничная яркость мощными потоками счастья множит саму жизнь…»
Какие-то неясные звуки вернули к действительности. Нехотя сдернула дорогие сердцу наряды… Убрала. В руках оказалось «Лето Господне» любимого Шмелева. Не читалось. Что это? Потянулась к листку. Верлибр[1 - Не срифмованное стихотворение.].Чей он, откуда? Всмотрелась:
Ты – самая знатная матрона,
Нет тебя краше, образованней и богаче.
Но я, разорившийся патриций,
Промотавший свое состояние
На веселье, вино и друзей,
Обожаю тебя!
Мы – неравны.
Разве ночь может любить день?