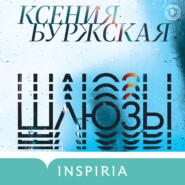По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Литораль
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Как в ментовке п-п-прошло? – спросил сын.
– Нормально.
Но сам Анатолий не знал, нормально прошло или нет и будут ли они искать, потому что в первый день сказали «ждите три дня, может, вернется», а сегодня, так и быть, согласились «ну хорошо, примем заявление», но будут ли искать? Между бумажкой и действием разница огромная. Еще он подумал, что правильнее было бы показать ментам фото из телефона, уж точно более актуальное, чем то, из паспорта, но даже ведь не спросили, а он растерялся.
Писать заявление его отправили в коридор, где ручки привязаны к стульям веревочками. Бумагу выдали, он долго пристраивал ее на коленях, а потом сел на корточки перед стулом и начал писать – практически школьное сочинение: «Я, Василевский Анатолий Николаевич, 1979 года рождения, хочу заявить о пропаже моей жены, Василевской Анны Сергеевны, 1981 года рождения…»
Ушла из дома и не вернулась. А из дома ли она ушла?
Анатолий плохо помнил те сутки.
Сначала он ехал за сыном, летел самолетом. Анна просто позвонила ему и сказала: «Съезди». И он поехал.
– У вашей жены есть особенности?
Моя жена – особенная? Я никогда не думал о ней так. Давайте я расскажу о том, что помню. Я влюбился в нее, потому что она смеялась над моими шутками. Звучит странно, но это правда. Никогда не думал до встречи с ней, что так приятно, когда кто-то смеется над твоими шутками. В детстве мне говорили, что я зануда. Конечно, она была красивой. Все эти ее длинные волосы и ресницы. Они так смешно подрагивают, когда она спит. Впрочем, я давно не замечал этого. В смысле не смотрел на нее по утрам. Ну, годы идут. Годы проходят – и вы уже многого не замечаете. У вас есть жена? Как давно? А-а. Поймете позже. Сначала вы радуетесь каждому дню, все в этом человеке кажется вам идеальным, даже его недостатки, а потом меняется все – то, что она говорит и, главное, как говорит, и даже запах, вы перестаете замечать все то, что вас так восхищало, и вы такой: ну да, это моя жена, ничего особенного. Принимаете как данность. А потом и вовсе перестаете ее узнавать…
– Все это не пригодится. Назовите какие-то особенности, по которым ее легко… опознать. То есть узнать.
Ну… У нее длинные темные волосы. Кстати, и правда странно, что она не седая, да? Когда вообще женщины начинают седеть? У меня вот уже все белое, даже борода. Может, она красилась? Я не спрашивал. Какой именно цвет? Ну, коричневый или черный, видимо, я в этом не силен, но не совсем черный все-таки, не как у азиатов. Глаза темные. То есть карие. Как это правильно называется. Скорее худая. Хотя, возможно… Она что-то говорила, что не ест после шести. Вроде бы это значит, что худела? Я не специалист. Как по мне, она была нормальная, понимаете? Когда не кожа да кости, есть за что подержаться, но ничего лишнего. Теперь еще… Родинка или как это назвать – бородавка? Короче, что-то такое на подбородке. Но не очень заметная. В чем она была одета. Видите ли, я не очень разбираюсь в женской одежде. Она работает в школе, у нее поэтому одежда как правило… Ну, юбка, рубашка… Смогу ли я увидеть, чего не хватает в шкафу? Нет, я правда не уверен… К тому же она была дома, в домашнем… Это что – футболка, джинсы. Да, почему джинсы? Может быть, просто штаны такие, как спортивные. Серые или? Я правда не помню, простите. Нет, кольцо она не носила. Интересный, кстати, момент. Когда она сняла кольцо? Где-то полгода назад. Точно. Я еще спросил, где кольцо, я такие вещи обычно не замечаю, но тут заметил. А она сказала: пальцы отекают. Я не спрашивал, почему. Нет, она не болела. Я сам кольцо давно не ношу. Причины нет особенной, просто мне неудобно, так и не привык. А она носила. Для нее это было важно. Поэтому я удивился. О разводе мы не говорили. Почему у вас такие негативные сценарии в голове? Разве я мог ее убить за то, например, что она сняла кольцо? Бред какой-то. Да ни за что я не мог ее убить. Я не злой. Разные бывали чувства, конечно… Обида, ярость. Как у всех. Но никогда не было безразличия. Вот что мне кажется важным. Любые чувства – это терпимо, а вот безразличие – это фатально. Фаталити, как говорила ее подружка, змея подколодная. Я не люблю ее подружек, никогда не любил. А ее любил в целом. Говорю как есть. Как было.
2
Днем темно, ночью темно, невыносимо. Анна в спальне шторы по привычке распахивает с утра, а там все то же – матовая угольная мгла. Сейчас четыре утра или десять вечера – она не знает. Сколько до будильника? Просила ведь Толю починить электронные часы, но он без конца забывает. Анна нащупывает на тумбочке телефон, тот отзывается нехотя, трещина проходит прямо посередине – между цифрами ноль шесть и тридцать восемь. Через двадцать минут подъем, стоит ли ждать? Анна встает, стараясь не наступить на вздыбленную волну линолеума. На кухне тихо. Тикает плита, как бомба с часовым механизмом: таймер тоже никак не починится, потому что сломанные вещи редко приходят в норму сами. Анна крутит ручку жалюзи – темнота.
В ванной пахнет сыростью, кое-где проступили черные грядки плесени, Анна проверяет колготки на змеевике – высохли и висят плетьми. В голове сама собой возникает мысль, что на них можно было бы и повеситься. Но все-таки не сегодня.
Выйдя из ванной в густом облаке пара с запахом ванили, Анна запахивает халат, прячет в него свое бледное потяжелевшее тело. Она долго рассматривала себя в зеркале, картина неутешительная: по бедрам разошлись сеточкой фиолетовые сосудистые тропинки, живот осунулся, плечи все норовят соединиться с фасадом, подмяв под себя то, что она прячет уже по привычке, – слегка вытянутую грудь с большими, как вишня, сосками.
Анна выходит, не глядя под ноги, – читает новости в телефоне. Ничем хорошим это для нее не кончится: тяжелое предчувствие наваливается комодом, подминает под себя все. Толя выныривает из-под одеяла – всклокоченный, несвежий, знакомый до тошноты. Нащупывает на тумбочке очки, надевает их и своими близорукими глазами таращится на нее, словно кот. Кот, к слову, тоже тут и просит еды длинным гортанным мяэ-э-э. Через левую ногу стреляет судорога – скорее всего, нервное, Анна издает протяжный и тоже животный звук, идет на кухню. Линолеум лежит кусками, топорщится горками – безрукий муж ее, Толя, не в состоянии не то что сделать сам, а просто вызвать специалистов. Анна выдавливает корм из пакетика коту в миску, и он тут же начинает хватать куски, как будто не ел неделю. Она гладит кота ладонью по твердой, мохнатой голове и включает заляпанный чайник.
– Аня, – окликает ее муж. – Что у нас на завтрак?
«Ах ты боже мой, – думает Аня. – Ну что ты вечно, как будто тебе пять лет».
Но вместо упреков, которые сегодня ей не под силу, молча кидает на плиту сковородку.
– Голова не болит? – интересуется Толя.
Голова не болит.
Анна выходит на балкон и молча закуривает. Минус одиннадцать минут жизни, как написано в статье о вреде курения, которую она давеча вдалбливала детям в школе. Дети (впрочем, это уже не дети) плевать на это хотели – завтра их снова будут ловить за школьным крыльцом. На балконе срач – зимняя резина, какие-то банки, краска, санки и лыжи, все ненужное. Анна думает, что можно все это выбросить. Поставить тут столик, как в Италии. Стульчики. Цветочки. И знает, что ничего этого не будет. Да в общем, даже если поставить – кто тут будет сидеть и зачем? Вид отсюда не то чтобы привлекательный – пятиэтажки и жопа «Пятерочки», куда по утрам приезжает грузовик и начинает разгружаться: гремят ящики, орут грузчики, чаще всего матом – с акцентом.
А ночь? Как цветы переживут эту бесконечную ночь? Полярная ночь длится сорок дней, осталось два. Потом еще несколько месяцев невнятных сумерек… Анна размазывает бычок о почерневший бетон балкона и выбрасывает за борт. Где-то за верхушками деревьев накатывает на берег океан – огромный, как уныние Анны, страшный, как супружеское отвращение.
Толя сидит за столом в длинных выцветших трусах и пожелтевшей майке. На столе дымятся горячие бутерброды, нарезан заветренный сыр, колбаса накромсана, будто ее жестоко убили. Но все же это забота: Анна на миг даже чувствует благодарность – ну надо же, сделал завтрак, господи, какая прелесть. Она обнимает Толю и целует его в небритую щеку.
– Вечером мать приедет, – извиняющимся тоном говорит Толя, и Анна начинает понимать, почему вдруг был подан завтрак. – Старый Новый год праздновать.
– То есть ты только сейчас решил мне это сообщить? – воспламеняется Анна.
Свекровь приезжает, ладно, но это значит: вымыть пол, убрать бардак, приготовить ужин. Убрать с балкона окурки, прийти с работы раньше, купить продукты.
– Нет, ну правда. Ну каждый раз.
Анна вынимает пакет из пакета с пакетами, яростно встряхивает его, чтобы он обрел какую-то форму, и кидает туда все подряд – обертки, объедки, салфетки. Распахивает балкон, выворачивает пепельницу.
– Ну прости, пожалуйста, – бубнит Толя. – Давай помогу.
– Посуду помой, – фыркает на него Анна и выходит вместе с пакетом из кухни. – И елку вынеси в конце концов. Весь пол уже в иголках.
Толя молча кивает, вытирает руки о майку и встает к станку. Посуды накопилось дня за два. Толя вздыхает.
– Или Наума попроси! – кричит Анна из прихожей. – Пора его уже будить, в школу опоздает.
Вечером приедет не только свекровь, еще обещала зайти Алка: громкая, шумная, прямолинейная, локтями во все стороны машет – со стола всегда что-нибудь падает и непременно вдребезги. Водка, сканворды, караоке, дети-подростки, две собаки лохматые – нужны силы, чтобы с ними справляться, хотя бы перекричать. Так что у Алки глубокий командный голос. Ее всегда много. Толя ее не любит. Говорит, что эта женщина всегда сует свой нос куда не следует. Но Алка не сует, она принимает живое и деятельное участие. Анна привыкла: Алка ее лучшая подруга, какая ни есть. Есть и еще одна. Тонкая, почти прозрачная Еся: учительница немецкого, опера и балет, коллекция фарфора, два неудачных брака, чайлдфри (или просто не получилось, что намного скорее), маленькая тупая собачка. Алка и Еся – как день и ночь, полные противоположности, но вокруг Анны они как-то соединились и теперь ходят парой, прямо как Ахеджакова и Талызина в новогоднюю ночь.
В последнее время Анна от них устала.
Алка все время лезет с непрошеными советами: а он что? А она что? А я слышала! А ты попробуй так!
А Еся… Анна вдруг вспоминает, как взялась худеть, вычерпала из дома все – макароны, картошку, сладкое. Сын начал прятать всю запрещенку в своей прикроватной тумбочке. Худели с Толей вдвоем – вместе сподручнее и не так обидно. И ведь Толя, зараза, сбрасывал быстрее, а Анна медленно – и первым делом, конечно, ушла грудь. Но все равно старалась – ограничивала себя во всем, и подруги, само собой, знали и поддерживали. То есть поддерживала Алка, она-то сама не могла себя ограничить ни в чем, и чужое усердие ее искренне поражало. А вот Еся была не в восторге: все время рассказывала Анне, что та портит желудок и грудь совсем плоская стала, а она и раньше была не фонтан. Анна в ответ улыбалась, а что тут скажешь? Но однажды Анна устроила вечеринку – по случаю, кажется, 8 Марта. Пригласила девчонок, купила вино по акции. Алка пришла с пластиковыми ранневесенними фруктами из заграничных теплиц – все-таки праздник весны. А Еся, змея, вдруг зачем-то притащила торт – жирный, весь из себя крем. И сказала Анне с нежной улыбкой: «Это тебе». «Я же худею, Есенька», – удивилась Анна, а та обиделась как будто: «Ну я же старалась, весь день у плиты».
То есть не лень ей, сучке, было купить коржей, заварить крем и корячиться, лишь бы Анна не стала худой. Потому что на Анну мужики западали, несмотря ни на что, а Еся была одна – долго, достаточно долго для того, чтобы превратиться в злую, несносную тварь, и хотя они были знакомы уже лет пятнадцать, Анна догадывалась, что дружбе конец.
Еся все же заставила ее съесть кусок – дождалась, пока она напьется, и тут же впихнула. Анна съела, но обещала себе сразу же помнить про этот случай.
А торт был вкусный, даже очень.
Готовила Еся славно.
Толя помыл, громыхая, посуду и стоит теперь как часовой над ее душой.
Анна красит глаза, согнувшись над низким зеркалом в прихожей.
– Чего?
– Да так. Красивая сегодня.
Анна закатывает глаза – звучало неискренне.
Она и не помнит, когда в последний раз это было по-настоящему. Когда Толя ей что-нибудь такое говорил, от чего быстрее билось сердце, или когда он ей что-то такое дарил, что она хотя бы запомнила. Анна спрашивала себя: что он подарил мне на прошлый Новый год? А на день рождения? И не помнила. Хочется ли ей обнимать его? Тоже вопрос уровня «продвинутый». А можно не отвечать?
Ей было двадцать пять, когда они встретились. Не страстный роман, но приемлемый. Смущало Анну многое, в том числе – каким бы смешным это ни казалось – его нелепое имя. То-ля как приговор. Еще и мать добавила:
– Нет, – сказала она, – ну ты серьезно? Толя – это ж диагноз.
Но у Толи были красивые синие джинсы. К тому же он сильно старался: забирал Анну с работы на новенькой кредитной машине, строго раз в неделю приносил цветы – заветренные хризантемы или длинноногие розы – чаще красные или белые, а один раз даже нашел где-то тюльпаны в декабре, прямо как падчерица подснежники.