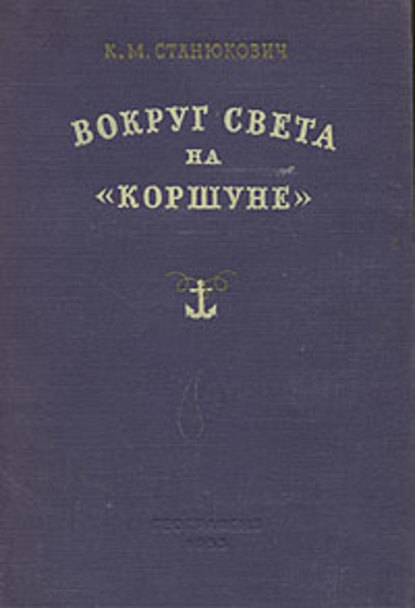По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вокруг света на «Коршуне»
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Капитан в это время ходил по мостику.
Ашанин, стоявший штурманскую вахту и бывший тут же на мостике, у компаса, заметил, что Василий Федорович несколько взволнован и беспокойно посматривает на наказанных матросов. И Ашанин, сам встревоженный, полный горячего сочувствия к своему капитану, понял, что он должен был испытать в эти минуты: а что, если в самом деле матросы перепьются, и придуманное им наказание окажется смешным?
– Господин Ашанин! Подите взглянуть, пьет ли кто-нибудь из наказанных, – сказал капитан.
– Есть! – ответил Володя и пошел на бак.
Все четверо матросов были видимо сконфужены неожиданным положением, в котором они очутились. Никто из них не дотрагивался до чарки.
Серьезное лицо капитана озарилось выражением радости и удовлетворения, когда Ашанин доложил ему о смущении наказанных.
– Я так и думал, – весело промолвил капитан. – Только на Ковшикова не надеялся, думал, что он станет пить.
И, помолчав, прибавил:
– А еще у нас во флоте до сих пор убеждены, что без варварства нельзя с матросами. Вы видите, Ашанин, какое это заблуждение. Вы видите по нашей команде, как мало нужно, чтобы заслужить расположение матросов… Самая простая гуманность с людьми – и они отплатят сторицей… А это многие не в состоянии понять и обращаются с матросами жестоко, вместо того, чтобы любить и жалеть их… И знаете ли что, Ашанин? Я почти уверен, что эти четверо матросов никогда больше не вернутся с берега мертвецки пьяными… Наказание, которое я придумал, действительнее всяких линьков… Им стыдно…
Нечего говорить, с каким восторженным сочувствием слушал Володя капитана.
Испытание длилось около двух часов.
К изумлению ревизора, артиллерийского офицера и нескольких матросов, расчет капитана на стыд наказанных оправдался: ни один не прикоснулся в водке; все они чувствовали какую-то неловкость и подавленность и были очень рады, когда им приказали выйти из загородки и когда убрали водку.
– Будь это с другим капитаном, я, братцы, чарок десять выдул бы, – хвалился Ковшиков потом на баке. – Небось не смотрел бы этому винцу в глаза. А главная причина – не хотел огорчать нашего голубя… Уж очень он добер до нашего брата… И ведь пришло же в голову чем пронять!.. Поди ж ты… Я, братцы, полагал, что по крайней мере в карцырь посадит на хлеб, на воду да прикажет не берег не пускать, а он что выдумал?!. Первый раз, братцы, такое наказание вижу!
– Чудное! – заметил кто-то.
– И вовсе чудное!.. Другой кто, прямо сказать, приказал бы отполировать линьками спину, как следует, по форме, а наш-то: «Не вгодно ли? Жри, братец ты мой, сколько пожелаешь этой самой водки!» – проговорил с видом недоумения один пожилой матрос.
– Знает, чем совесть зазрить! – вставил наставительно старый плотник Федосей Митрич. – Бог ему внушил.
– То-то и оно-то! Добром ежели, так самого бесстыжего человека стыду выучишь! – с веселой ласковой улыбкой промолвил Бастрюков.
И, обращаясь к Ковшикову, прибавил:
– А уж ты, Ковшик, милый человек, смотри, больше не срамись… Пей с рассудком, в препорцию…
– Я завсегда могу с рассудком, – обидчиво ответил Ковшиков.
– Однако… вчерась… привезли тебя, голубчика, вовсе вроде быдто упокойничка.
– Главная причина, братцы, что я после этой араки связался с гличанами джин дуть… Вперебой, значит, кто кого осилит… Не хотел перед ними русского звания посрамить… Ну, и оказало… с ног и сшибло… А если бы я одну араку или один джин пил, небось… ног бы не решился… как есть в своем виде явился бы на конверт… Я, братцы, здоров пить…
И Ковшиков, желая хвастнуть, стал врать немилосердным образом о том, как он однажды выпил полведра – и хоть бы что…
IV
– Ну, господа, две бутылки шампанского за вами. Велите буфетчику к обеду подать! – воскликнул веселый и жизнерадостный мичман Лопатин, влетая в кают-компанию. – Ваши приятные надежды на свинство матросов не оправдались, Степан Васильевич и Захар Петрович!
И ревизор и артиллерист были несколько сконфужены. Зато молодежь торжествовала и, к неудовольствию обоих дантистов, нарочно особенно сильно хвалила командира и его отношение к матросам.
А в гардемаринской каюте Ашанин сцепился с долговязым и худым, как щепка, гардемарином Кошкиным, который – о, ужас! – находил, что капитан слишком «гуманничает», и, несмотря на общие протесты, мужественно заявил, что когда он, Кошкин, будет командиром, то… сделайте одолжение, он разных этих поблажек давать не будет… Он будет действовать по закону… Ни шага от закона… «Закон, а я его исполнитель… и ничего более». И в доказательство этого Кошкин усиленно бил себя в грудь.
В свою очередь и Ашанин не без азарта размахивал руками, доказывая, что не всегда можно применять законы, если они очень суровы, и что совесть командира должна сообразоваться с обстоятельствами.
Хотя все и обозвали Кошкина «ретроградом», которому место не в русском флоте, а где-нибудь в турецкой или персидской армии, тем не менее он ожесточенно отстаивал занятое им положение «блюстителя закона» и ничего более. Оба спорщика были похожи на расходившихся петухов. Оба уже угостили друг друга язвительными эпитетами, и спор грозил перейти в ссору, когда черный, как жук, Иволгин, с маленькими на смешливыми глазами на подвижном нервном лице, проговорил:
– Да, бросьте, Ашанин, спорить… Кошкина не переспоришь… А главное – никогда ему и не придется применять суровых законов.
– Это почему? – обратился к Иволгину Кошкин.
– А потому, что тебя за твое бурбонство еще в лейтенантском чине выгонят в отставку… будь спокоен.
– Посмотрим!
– Увидишь!.. К тому времени и законы переменятся и таких ретроградов, как ты, будут выгонять со службы… Лучше, брат, теперь же переходи на службу к турецкому султану… Там тебе будет ход!.. Командуй башибузуками!
Это предложение, сделанное Иволгиным самым серьезным тоном, было столь неожиданно-комично, что вызвало не только общий смех, но заставило улыбнуться и самого Кошкина.
– Сам поступай к турецкому султану, – огрызнулся он.
– А ты разве не желаешь?
– Не желаю.
– Решительно?
– Да убирайся ты к черту с твоим турецким султаном! Турок я, что ли?..
– У тебя самые турецкие понятия…
– И врешь! Ты, значит, не понимаешь, что я говорю… Я говорю, что буду строгим блюстителем закона во всей его полноте, а ты посылаешь меня в самую беззаконную страну… Это вовсе не остроумно… просто даже глупо…
– Не лучше ли, господа, прекратить споры, пока Кошкин не перешел на турецкую службу, и садиться обедать? Эй, Ворсунька! Подавай, братец! Да скажи коку, чтобы окурков в супе не было! – смеясь проговорил толстенький, кругленький и румяный, рыжеволосый гардемарин Быков.
Не особенно экспансивный, ленивый и мешковатый, он довольно равнодушно относился к спору и, покуривая папироску, мечтал об обеде, а не о том, каковы во флоте законы. Бог с ними, с законами!..
– Ну, господа, садитесь… Кошкин, довольно спорить… ей-богу, надоело слушать!..
– А ты не слушай.
– И хотел бы, да не могу… Ты так орешь, что тебя в Батавии, я думаю, слышно…
Появление Ворсуньки с миской и другого вестового с блюдом пирожков несколько умиротворило спорщиков, и все проголодавшиеся молодые люди с волчьим аппетитом принялись за щи и пирожки и потом оказали честь и жаркому, и пирожному, и чудным батавским ананасам и мангустанам.
Глава одиннадцатая.
Гонконг и китайские пираты