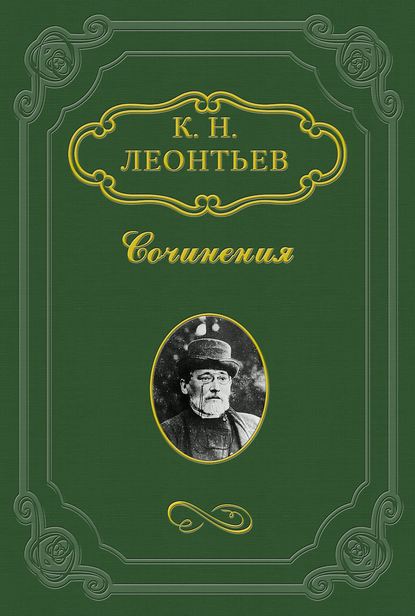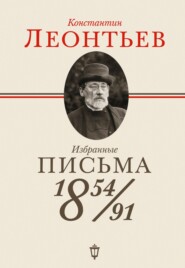По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Плоды национальных движений на православном Востоке
Год написания книги
1888
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
С чисто политической стороны это было бы прекрасно!
Не забудем при этом представить себе, что исполнилось и то, о чем я упоминал столько раз, – что Россия в то же время завладела проливами и утвердилась на них.
При этом условии, при небывалом еще воцарении на Босфоре действительной, центральной, православной силы, большая единая Сербия будет, пожалуй что, и необходима для равновесия в недрах того Восточного союза, который должен будет образоваться на развалинах Турции под главенством России.
(Естественные элементы и условия этого союза превосходно разобраны в книге Данилевского «Россия и Европа»
(#c_24), желательно бы только, чтобы история или политический инстинкт русской государственности внес бы в этот теоретический план два важных изменения: 1) отсрочить по возможности надолго гибель Австрии и вступление западных славян в эту неизбежную конфедерацию и 2) присоединить как можно скорее к этой первоначальной Восточной конфедерации на разумных условиях остатки Турции и Персию. Т е. побольше вообще азиатского мистицизма и поменьше европейского рассудочного просвещения.)
Итак, все сербы задунайские соединились в одно Королевство под властью князя Николая Черногорского. На Балканском полуострове и Средиземном море четыре государства: Греция, Болгария, Румыния, Сербия. Все они в военно-политическом, более или менее тесном, более или менее охотном (или даже пускай и вовсе вначале неохотном), но неизбежном союзе с Россией, без всяких уже писаных прав Европы на вмешательство. Для равновесия политических сил это прекрасно.
Чего же лучше? Иначе из-за чего же мы, русские, приносили жертвы?
Но вот вопрос: как подействует такое национально-политическое объединение на дух сербского племени, на его быт, на его культурные особенности? (Умственное, духовное, эстетическое и вообще культурное влияние спохватившейся наконец России, влияние с Босфора, более чем с Невы доступное, надо при этом рассуждении для ясности на время отстранить, подразумевая пока вначале одно лишь политическое, более механическое, так сказать, чем внутреннее, на самый дух, влияние.)
Прежняя история разбила сербское племя на несколько частей и каждой из них через это самое придала особые, довольно резкие оттенки. Недоступная, всегда независимая, дикая, в высшей степени патриархальная и воинственная Черногория, Сербия, собственно, с начала этого века уже освобожденная и потому скорее подпавшая западным умственным влияниям; Босния, Герцеговина и Старая Сербия, до последнего времени жившие под турком. Эта разница выгодна для богатства духовного. Населения родственные, но долго жившие при разнородных условиях, развившие поэтому в среде своей разнообразные душевные начала, разновидные людские характеры и разнородные привычки, проявляют много силы, когда им приходится вдруг объединиться под общей и естественной властью.
Но надолго ли все это в наше космополитическое всеразлагающее время?
И наконец, если примеры большой Италии и великой Германии доказывают, что объединение племенное в наше время, увеличивая на короткое время внешнюю силу государств, ослабляет культурную плодотворность обществ, то чего же можно с этой культурной, со славянской-то собственно стороны, ожидать от подобного объединения Сербии? Очень малого.
Если при всей страстной жажде видеть могущественную нашу Россию, одетую в цветные восточные одежды, молящуюся все усерднее и усерднее в храмах Господних и с недоверчивым отвращением взирающую на все новейшие истинно-презренные измышления Запада, если при стольких, даже еще слабых, но все-таки ободряющих признаках поворота, которые мы у себя видим за последние года, позволительно сомнение в религиозно-культурной будущности самой этой великой России (сомнение в будущности не ближайшей[7 - Конечно, эта ближайшая будущность – надежна.], но очень долгой, многовековой, истинно самобытной и всепоучающей)… то на многое ли с этой-то высшей точки зрения можно рассчитывать от нации в каких-нибудь 2–3 миллиона или около того, с самой обыкновеннейшей, бессословной «интеллигенцией» во главе?
О! Если бы возможно было в наше пользолюбивое мещанское время образовать из полудиких, грозных черногорцев какую-нибудь рыцарскую и набожную аристократию и подчинить ей, как «средний класс», «интеллигентных» сюртучников Белграда! Но возможно ли это? Конечно нет! Увы!
О! Если бы современные нам сербы (всех пяти перечисленных областей), соединившись, могли бы выносить неограниченную и патриархальную власть своего нового Короля, одетого в золотую одежду; героя, полководца и поэта, который, по всем признакам, в воспитании своем приобрел и сохранил от Европы именно только то, что в преданиях ее прекрасно: рыцарство, тонкость, романтизм!
Но разве могут восточные единоверцы наши дышать без мелкой конституционной возни? У них и представления нет о другой жизни. Это их поэзия, их мысль, их религия, их единственное развлечение даже! Возможны ли у них такие широкие мыслители, как. Хомяков, Соловьев, Данилевский? Невозможны! Существование таких избранных умов доказывает, что есть и в самом обществе потребность глубокой, отвлеченной и в то же время живой мысли; потребность, на которую они дают ответы, есть умственная жажда, которую они утоляют.
Полны ли восточные монастыри (Рильский ли, болгарский, например, или свято-горские обители), как полны у нас Троицкая лавра или Оптина пустынь, образованными поклонниками, желающими бесед с духовными старцами, требующими благословения их даже на свои мирские дела? Гостят ли в этих восточных обителях прямо с целью религиозного утешения, как гостят у нас князья и графы, генералы и сенаторы, профессора и писатели, светские женщины и богатые торт овцы?.. Нет! «Европейским» грекам, сербам и болгарам уже не нужны теперь стали духовники и старцы! Или они еще не искусились достаточно, чтобы возвратиться к ним, чтобы повергнуть с любовью и страхом к подножию Церкви Христовой обильный и давний уже запас знания и тонкости, наследственную ношу векового опыта, которая тяготила бы их, как тяготит она многих из нас, русских «искателей»… У них это бремя знания, опыта, личной идеальной тонкости очень легко, и запас этот слишком еще беден для такого смирения! Вольноотпущенный недавно лакей легкомысленнее пресыщенного и утомленного вельможи!
Есть ли у них, у всех этих мелких народцев, блестящая, богатая, светская жизнь? Возможно ли из юго-восточной этой жизни написать такой обильный мыслями, изящными образами и тонкими, страстными чувствами общественный, но ничуть не политический роман, как «Анна Каренина»?! Невозможно. Пошлите туда самого Толстого, он не напишет его, именно потому не напишет, что он любит реальную правду в искусстве. Выдумывать небывалого, непохожего он не станет. Если найдется слабое подобие чего-нибудь подходящего, то это в турецком и «фанариотском» Царьграде и в двух румынских столицах (Яссах и Бухаресте), но не в Софии и не в Белграде, конечно. Даже и не в Афинах!
Существует ли на православном Востоке наша русская или английская помещичья, просвещенно-деревенская жизнь?.. Нет, не существует. Вот, значит, и этих занятий, этих утех, этих привычек, идеалов и преданий – там нет.
Вся жизнь, все дыхание и вся поэзия жизни в этих странах состоит в коммерческой и политической борьбе. Без них там людям тяжко, скучно. Константин Аксаков говорил, что североамериканцы «приняли слишком много внутрь государственного начала; отравились политикой». С несравненно большим основанием то же самое можно сказать про восточных единоверцев наших и в особенности про югославян, про болгар и сербов. Политическая борьба внутренняя и внешняя, как личная наисильнейшая идеальная потребность людей, и общеевропейский демократический идеал (переведенный на свои вовсе не красивые славянские наречия) для всей нации, – вот что им нужно пока, – и больше ничего! Иначе они и чувствовать не могут, ибо при таких условиях, какие мы знаем, а не при иных они вышли на свет современной истории из-под столь полезного их прежнему воспитанию, хотя и ненавистного им, азиатского плена. Вышли они из пастушеской и простодушно-кровавой эпопеи недавней старины своей и попали прямо головой в серую, буржуазную, машинную, пиджачную, куцую – Европу наших дней, изношенную уже до лохмотьев в течение прежней великой и страстной истории своей.
XVI
Все эти четыре нации родного нам Юго-Востока: греки, румыны, сербы и болгары – с виду (культурно-бытового) теперь очень между собою схожи, несмотря на все несогласия свои… (Состояние однородности есть состояние неустойчивого равновесия…)
Разница между ними не больше, чем разница между четырьмя карточными валетами…
И самые яркие, самые «червонные» из всех четырех восточно-православных валетов этих в настоящее время все-таки болгары. По крайней мере – бандиты, разбойники и умеют народ свой заставить себе повиноваться… Они бьют друг друга, бьют духовных лиц; секут бывших министров, производят церковные coup d'Etat, сажают по несколько епископов разом в экипажи и увозят их куда-то. Не насыщенные своим отложением от Вселенской Церкви, они хотят уже и от своего экзарха произвести раскол на расколе. Если бы они не нуждались в мнении больших монархических держав Запада, – они давно бы, я думаю, закрыли храмы и объявили бы «царство разума»! Они топят ночью граждан своих в Дунае, – они не боятся Турции; знать не хотят России; Австрию тоже, конечно, стараются эксплуатировать как-нибудь в свою пользу. Сербов разбили наголову! Что ж? По крайней мере сильно, просто и нам впредь поучительно! Поучительно, между прочим, – и в том смысле, что, чем свободнее, чем беззаветнее чисто национальная племенная политика, тем она революционнее, тем государственный нигилизм ее нагляднее. Перед болгарской революционной диктатурой молодца Стамбулова бледнеют все прежние эллинские умеренные волнения, а тем более вялый и дряблый румынский либерализм. Греция освободилась впервые в менее отрицательные времена, и у ней есть великий охранительный тормоз: глубокая связь ее истории с историей Православной Церкви. Румыны, менее всех других народов Востока родственные России по крови, языку и по западным своим претензиям, со стороны социального строя зато – более всех этих народов напоминают Россию. У них, как и у нас, было крепостное право, были сословия, было дворянство знатное и дворянство низшее реформы, положим, и у них, как и у нас смешали все это в одну либерально-равенственную болтушку; но нравы, предания, привычки привилегированных сословий надолго еще переживают права и привилегии и влияют на жизнь. В Румынии поэтому какая-то тень дворянского духа и дворянских привычек должна иногда (почти невидимо тормозить все то, что так неудержимо рвется вперед в Болгарии, – более дикой, молодой и лишенной всяких осязательных преданий. Сербское племя тормозится пока на общереволюционном пути тем областным раздроблением, о котором я выше говорил. Разница, как видим, есть между этими четырьмя народностями православного Востока, но это не какая-нибудь существенная разница в духе, в идеале преобладающего общественного направления; это разница в степени напряжения одних и тех же наклонностей. Различие не качественное, а количественное.
Все эти народы идут пока на наших глазах не в гору истинно культурного обособления от Запада и органического своеобразного расслоения внутри, а под гору демагогического внутреннего уравнения и внешней всесветной ассимиляции в идеале «среднего европейца». Различие не в цели стремления по наклонной этой плоскости, а только – в силе тормозов.
Всех сильнее и крепче тормоз у греков, всех ничтожнее – у болгар. Румыны и сербы – первые по социальным причинам, вторые по внешнеполитическим – занимают между ними средину.
И вот, возвращаясь снова мыслью моей к последним, к задунайским православным сербам, снова говорю себе:
Политическое объединение всех сербов, хотя бы, например, под властью князя Николая Черногорского, возведенного в Короли, желательно при известных обстоятельствах для будущего политического равновесия в неизбежной Восточной конфедерации с Россией во главе. Объединение сербов – вопрос одного лишь времени, и видеть князя Николая Королем всех сербов желательно не потому только, что он был доселе верным союзником России (это может легко измениться), – нет, я не то имею в виду. Я не публицист «дипломатических» фраз в угоду завтрашнему дню! Это не мое призвание – хвалить лишь то, что сейчас союзно, и бранить лишь то, что нам теперь враждебно. Сознаю, что этот способ действия, эта ложь, это всеобщее соглашение искусственного и притворного пристрастия приносит свою долю пользы отечеству, ибо действует возбуждающим образом на большинство читателей (то есть на тысячи и тысячи умов, в политике недалеких). Но что ж делать? У всякого свои наклонности. Для меня сильный человек сам по себе, яркое историческое и психологическое явление само по себе дорого даже и в Мексике или на мысе Доброй Надежды, а тем более в славянской среде, которую я боготворил бы, если бы она не была вообще так похожа на самую серую, самую казенную, самую до швов истасканную общеевропейскую демократию. Мне дорог Бисмарк как явление, как характер, как пример многим, хотя бы и доказано было, что он нам безусловный враг. Мне жалок Гладстон, который употребил силу своего характера и своего ума на то, чтобы сознательно двинуть когда-то великую, своеобразную родину свою как можно дальше по пут и все т ого же проклятого прогресса, все той же уравнительной бессмыслицы. Он жалок мне, хотя бы он был тысячу раз друг России. Россия еще недостаточно умом самобытна, и потому дурные политические и культурные примеры для нее опаснее политических врагов. Внешние враги, войны, даже открытые бунты там и сям для России не должны быть страшны. Ее ближайшая будущность, ее ближайшие триумфы несомненны. Страшны должны быть для нее пошлые примеры и вялые влияния. Сомнительна долговечность ее будущности; загадочен смысл этой несомненной будущности, ее идея. И я ли один так думаю? Нет, я знаю, многие в этом согласны со мною. Только не скажут громко, а лишь «приватно» пошепчут…
Поэтому и князь Николай должен быть дорог не только и не столько как союзник России, сколько как славянин, высоко и своеобразно развившийся, поэт, полководец, политик, герой в живописной национальной одежде.
Но если… (положим)… если в самом деле сбудется то, о чем я говорил?.. Если он воцарится в Белграде?
Не облечется ли он в «Европу» всячески – и в прямом, и в переносном смысле? Если даже и в Черногории уже занадобился какой-то «кодекс», если для составления этого «кодекса» отыскался даже кровный черногорец Богишич
(#c_25), то чего же ждать от либерального пансербизма? Если сам Бисмарк в столь разнородной и содержательной когда-то Германии стал (хотя бы невольно, а не преднамеренно, как Гладстон), стал орудием космополитической ассимиляции, то что же против этого течения может сделать самый энергический и даровитый Король небольшого и духом ничуть не оригинального племени?
Сила обстоятельств превозможет его!
О, ненавистное равенство! О, подлое однообразие! О, треклятый прогресс!
О, тучная, усыренная кровью, но живописная гора всемирной истории!
(#c_26) С конца прошлого века – ты мучаешься новыми родами. И из страдальческих недр твоих выползает мышь! Рождается самодовольная карикатура на прежних людей: средний рациональный европеец, в своей смешной одежде, не изобразимой даже в идеальном зеркале искусства; с умом мелким и самообольщенным, со своей ползучей по праху земному практической благонамеренностью!
Нет! – никогда еще в истории до нашего времени не видал никто такого уродливого сочетания умственной гордости перед Богом и нравственного смирения перед идеалом однородного, серого, рабочего, только рабочего и безбожно бесстрастного всечеловечества!
Возможно ли любить такое человечество?!
Не следует ли даже ненавидеть не самих людей, заблудших и глупых, – а такое будущее их, всеми силами даже и христианской души?!
Следует! Следует! Трижды следует! Ибо сказано: «Возлюби ближнего твоего и возненавидь грехи его!»
(#c_27)
XVII
(#c_28)
Я кончил и спрашиваю себя: неужели не ясно теперь, что племенная политика как правительств, так и самих наций есть в наше время – не что иное, как одна из форм всемирной революции, один из самых сильнейших способов космополитического все-смешения?
Я говорил о самой России и Турции со дней Парижского трактата; о свободной Греции и объединенной Румынии; о болгарах, купивших первоначальную свободу свою отторжением от Вселенской Церкви, и о неизбежном в более или менее близком будущем пансербизме, не могущем, по-видимому, ничего дать, кроме – самой обыкновенной современно-европейской плоскости «передового» стиля.
Везде – на всем этом обширном протяжении от Ледовитого океана до Средиземного моря и от Великого океана до пределов Западной Европы – за последние 30 с небольшим лет космополитическая революция сделала неимоверные успехи. Везде ослабление религиозного чувства; везде демократические наклонности (даже и бескорыстные у многих); везде больше противу прежнего сходства с Западом в быте, привычках, понятиях и модах!
Разница между самой Россией и православным Юго-Востоком, впрочем, та, что в первой с 81 года начался все больший и больший переворот к охранительной реакции и в действиях власти, и в стремлениях мысли; а на Юго-Востоке – ничего подобного еще не заметно и не может даже и быть, ибо там власти общей и сильной нет, а мысль своя еще незрела и европеизмом еще не пресыщена, – не доросла еще до той потребности независимости от Запада, к которой порывается эта национальная мысль у нас – на всех поприщах.
Вот разница.
Но (с другой стороны) если мы вообразим себе две картины всего православно-мусульманского Востока: одну времен Государя Александра Павловича, 20-х годов, или даже и времен Императора Николая, 30–40-х годов, а другую – современную нам, – то, разумеется, мы будем поражены при виде тех успехов, которые сделала и на Востоке за истекшие полвека всемирная революция.
Вообразим себе сперва время Николая Павловича и султана Махмуда, – положим, даже и после освобождения Эллады.
Какое разнообразие нравов, положений, законов, обычаев, воспитания и вкусов! Какое еще твердое единство Православия!