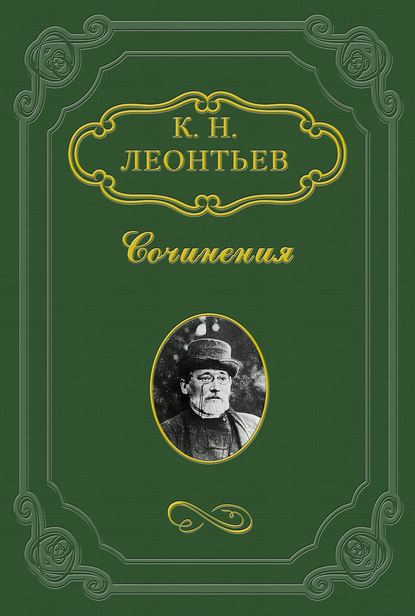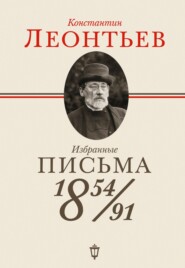По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мои дела с Тургеневым и т.д. (1851–1861 гг.)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В 56-м году я заплатил ему за это повестью «Лето на хуторе», очень яркой описаниями и которую я терпеть не могу, ибо в ней все фальшиво сначала до конца, кроме некоторых сторон характера девушки Маши, списанной с одной горничной, с которой я был близок и которую одно время очень любил.
Маленькая повесть в газете и небольшая похвальная статья в журнале имени никому не дадут. Чтобы очень мелкими вещами составить себе имя, надо или очень часто, не прерывая, их публиковать, или издать разом вместе.
Очень малая по размеру вещь может быть верхом искусства (таковы, например, «Frederic» и «Bernerette» Alf. de Musset; «La mare au diable» G. Sand'a; это вещи зрелые и гениальные, но они одни не упрочили бы за авторами имени).
Моя же повесть, очень хорошая для начинающего, недурная и вообще, не имела в себе никакой особой гениальности, и все-таки была незрела, испорчена тем дурным русским комизмом, от которого, и поседевши, сам Тургенев не мог спастись; до того неуместная гоголевщина въелась нам в кости.
Маленькие повести М. Вовчка, как малороссийские, так и великорусские («Червонный король», «Институтка», «Саша», «Игрушечка» и т. д.), неизмеримо выше и «Немцев» моих, и «Записок охотника», например. У М. Вовчка тогда не было и следа нашей мужской грубости, того юмора de mauvais aloi[18 - плохого качества (фр.)], которому мы до сих пор почти все подчиняемся. Однако ни одна из этих повестей, напечатанная раз (и потом – молчание), не могла бы дать М. Вовчку имя и положение. Теперь же, когда повестей было много, я нахожу, что ее недостаточно озолотили, и первые ее вещи следует признать несравненно более классическими, чем, например, Тургенева. Не говорю уже о шершавых и топорно, аляповато-ярких, пучеглазых «Записках охотника».
Итак, судьба «Немцев» эстетически была вполне заслужена, и я мог жаловаться лишь на цензуру, а не на вкус.
В 55-м году я напечатал «Лето на хуторе». Я послал эту повесть из Крыма; но половина ее была написана в 53-м году, и вся она принадлежит студенческому моему периоду. Она была обдумана гораздо прежде; но кончить я успел ее лишь в Крыму. Ее никто не хвалил, и поделом. Я согласен был бы, чтобы ее разругали даже как нельзя хуже, но лишь с тем, чтобы всех Помяловских и Успенских сослали в какую-нибудь Сибирь, а М. Вовчку поставили бы хоть маленький монумент за высокую, изящно-классическую бледность и за нежную гармонию ее повестей.
Тогда бы я все это нашел справедливым. Летом 54-го года я уехал в Крым военным врачом. С Тургеневым мы простились хорошо; но он очень тогда был печален и нездоров.
Катков давал мне разные хорошие советы. Он говорил мне с улыбкой:
– Я очень рад, что вы едете в Крым; хоть вы и не будете в строю, но все-таки, может быть, окуритесь порохом. Во всяком случае, смолоду поживете широкой, действительной жизнью…
Тургенев тоже еще раньше говорил мне:
– Смелей бросайтесь в жизнь! Смелей! Женщины! лошадь, товарищи… Вы ведете жизнь одинокую и всё заняты вашим внутренним миром; оставьте разбор себя… «Greifft hinaus ins vollen Menschenleben (Выхватывайте из полноты человеческой жизни (нем.))!» – Странно только, что вам выпала судьба быть доктором… При каких только условиях не развивается человек!..
Я был очень рад, что мнение и советы этих людей совпадали тогда с моими собственными вкусами. Я хотел и без того ехать в Крым, вопреки матери и всем родным. Долгую кабинетную жизнь я не уважал; университетский же мой быт мне стал очень тяжел тогда по многим причинам, о которых говорить здесь не место…
После этого последнего свидания нашего в Москве (весной 54-го года), на Пречистенке, мы с Тургеневым не встречались в течение целых семи лет; от весны 54-го года в Москве до весны 61-го года в Петербурге.
Эти семь лет, конечно, для обоих нас не прошли бесследно. Тургенев был, если не ошибаюсь, лет на десять старше меня (если не больше) и потому, может быть, внутренние перевороты и перерождения его не были уже так решительны и круты за это время, как мои – более юношеские. Я не хочу этим сказать, что глубокие перевороты душевные и умственные менее возможны в более поздние года. Напротив того, я сам на первых же страницах этих воспоминаний сознался, что всю свою жизнь готов разделить на две неравные ни по продолжительности, ни по их значению для меня половины; я сказал, что меньшую, кратковременную половину (всего 15 последних лет) считаю более осмысленною, более наполненною, весьма, конечно, несовершенною и по-христиански даже недостойною в подробностях поведения, но хоть в смысле общего (религиозного) мировоззрения правильною; а к первой более долгой половине жизни моей (от безответственного детства до сорока с небольшим лет) отношусь отчасти с глубоким равнодушием, отчасти с презрением, а во многих отношениях даже с ужасом, удивлением и пламенной ненавистью. Разумеется, чтобы сложилась у человека такая разница взглядов на свое прошлое, нужны были сильные умственные переломы и потрясающие (приятно или жестокопотрясающие) нравственные превращения. Случалось это с иными людьми и позднее сорока; случаются резкие перемены во все года! Но я хочу только напомнить, что перерождения духа человеческого от 20 до 30 лет совершаются быстрее и более бурно, чем в года зрелости. Тургеневу было уже за тридцать лет, когда мы с ним надолго расстались в 54-м году, а мне только за 20. К тому же, надо заметить, что на степень и глубину изменения во взглядах, привычках и чувствах наших огромное и неотразимое влияние имеет степень резкости внешних перемен в нашем образе жизни за известный срок времени. Чем перемены крупнее, чем антитезы наших внешних положений резче за это время и еще, чем больше число душевных струн затрагивают в человеке эти изменяющиеся внешние условия, тем, разумеется, человек больше за это время прожил, тем опыт его разностороннее, тем дальше он отходит и сам от прежнего себя, и от тех близких, которые за это время жили несколько неподвижнее его и по внешним условиям, и по внутренним движениям ума, воли и сердца.
Так случилось и с нами – со мной и с Тургеневым. С 54-го года до 61-го в эти семь лет я совсем переродился. Иногда, вспоминая в то время (в 60–61-м году, например) свое болезненное, тоскующее, почти мизантропическое студенчество, я не узнавал себя. Я стал за это время здоров, свеж, бодр; я стал веселее, спокойнее, тверже, на все смелее, даже целый ряд полнейших литературных неудач за эти семь лет ничуть не поколебали моей самоуверенности, моей почти мистической веры в какую-то особую и замечательную звезду мою.
Впрочем, чтобы не отвлечься от главной нити моего рассказа и не спутаться, – об этой молодой вере в себя поговорю, где будет кстати после, а теперь оставлю это в стороне.
Я говорил о переменах моего образа жизни за эти семь лет разлуки с И.С. Тургеневым. Перемены эти были очень разнообразны и резки. Во-первых – университет и война, Москва и Крым; подчинение (матери, богатым родным, у которых я жил в Москве, положим, отчасти и университетскому начальству) – и вдруг не только полная независимость вне службы, но и власть над людьми; хотя бы и над больными. И какая еще власть! Одна из самых могучих, одна из самых жестокоответственных перед собственной совестью и из самых безответственных и перед внешним законом, и перед мнением людским. В Крыму мне сразу досталось в военной больнице около полутораста страдальцев; а потом бывало и до 250 коек в моем почти бесконтрольном распоряжении. Это одно – разве мало для впечатлительного и думающего юноши?
V
В 54-м году осенью я уехал в Крым на войну; в 61-м году, тоже осенью, напечатал в «Отечественных записках» мой первый большой роман «Подлипки».
В течение этих семи лет я написал четыре небольших вещи: 1) Лето на хуторе, о котором уже говорил и повторять не буду, потому что оно не только внимания не стоит, но и заслуживало бы совершенного уничтожения; 2) Очерк из военного времени «Сутки в ауле Биюк Дорте»; 3) Комедию в 4-х действиях «Трудные дни» и 4) «Второй брак», довольно большую повесть (в «Библиотеке для чтения»)…
Это, конечно, очень мало для семи лет. Но на это было много причин.
Прежде всего, необходимость гораздо серьезнее прежнего заниматься медициной в военных больницах. Не потому, что контроль над нами был строг, или главные доктора были особенно искусны и страшны. Нисколько; а потому, что сама совесть стала строже при встрече с действительной ответственностью. Я не верю особенно в медицину, но нельзя же не согласиться, что опиум действует несколько иначе, чем каломель или рвотное, что кровопускание ослабляет воспаление, а хинин прекращает лихорадку. Хотя и это все условно и сомнительно, но надо, по крайней мере, не убивать больных; ибо (так рассуждал я тогда) убить человека на дуэли и войне – есть сила, а убить в постели – незнание, неловкость, т. е. слабость. Не только не «гуманно», но еще хуже того – для себя не лестно.
Вышел я не с 5-го, а с 4-го курса, вместе со многими другими товарищами, когда правительство весною 54-го года, видя недостаток в докторах, предложило нам получить равные права с медиками, окончившими полный курс, и двойное жалованье на первый год службы. Теоретическое образование на 4-м курсе было почти кончено, была уже и привычка обращаться с больными в приготовительной клинике Иноземцова и Овера; оставался год занятий преимущественно практических в Екатерининской больнице и акушерской клинике. Последняя, положим, была не нужна, так как солдаты не родят; но опыт большой больницы под ежедневным руководством таких профессоров, каковы были Поль, Варвинский, Полунин и др., значит очень много. Не с той смелостью, не с той быстротой соображения, с иным запасом живых фактов и впечатлений выходит студент с 5-го курса. Мы расчувствовали сами, что нам многого недостает.
Один из старших братьев моих, с которым я был довольно дружен, перед отъездом моим в Крым писал мне, отговаривая меня ехать на войну. Он сам служил долго на Кавказе военным. В числе разных неудобств он упоминал также о моей медицинской неопытности.
«Как ты с твоим человеколюбием, с твоей гуманностью, – писал он, – будешь неприготовленный лечить людей, несчастных раненых, делать ампутации и другие важные операции…» и т. д. Я отвечал ему, что «я ехать решился; что ампутации делать вовсе не так трудно, что эта операция правильная, с определенными линиями… и одним словом, – что будет – будет!..» И про себя я думал (это я хорошо помню): «Имей успех; сумей быть независимым, и тебе все простится! Что делать, если несколько человек сначала пострадают от моего незнания: это их судьба! – другой товарищ еще будет хуже меня на моем месте, знания равны, но он глуп, а я нет. Я постараюсь. Если я подчинюсь советам близких – тоска моя не излечится… Я должен ехать…»
Ехать я решился; я бы пешком тогда пошел в Крым, чтобы только не упустить из моей жизни такой редкий случай, как большая война, чтобы броситься в жизнь (по совету Тургенева), чтобы переменить на что-нибудь более мужественное и драматическое ту мирную и будничную среду, которая меня окружала в Москве… Я бы презирал себя до сих пор, если бы не поехал тогда в Крым; а что касается до нескольких больных, которых я мог убить, а может быть, и убил вначале по незнанию или по ошибке, то, во 1-х, это случается с лучшими врачами, а во-вторых, состояние души моей в Москве от сердечных чувств и других причин было до того тяжело, что я был похож на человека, который в минуту какой-либо паники и опасности сталкивает в огонь и бездну других, чтобы спасти себя. Если он не столкнет, его столкнут другие!
Когда за мою хитрую, но любящую 3. посватался О-в, который был предводителем и гораздо старше меня, она хотела отказать ему и сказала мне:
– Я буду ждать тебя; кончай свой курс и скажи мне только – будешь ли ты меня через год столько же любить, сколько теперь. Я откажу ему.
Я стоял перед нею. Ей было 25 лет; мне 23; я подумал о бедности, о детях, о спешном труде, о том, что она подурнеет скоро; о музе Тургеневской… И сказал ей: «Теперь люблю; но теперь нам жить нечем, а что будет через год – кто знает… Выходи за него».
Она поцеловала мою руку, ушла и тотчас же обручилась… Жених ждал уже ее в комнате ее тетки, не подозревая, что только в эту минуту решилась его судьба.
Я старался быть твердым, сколько мог; я решился принести любовь в жертву свободе и искусству; и сделал, конечно, хорошо, но стоило это мне таких страданий, что я… совещусь и сознаться немного в этом, плакал и рыдал два часа подряд после этого, вовсе уже как ребенок или женщина.
Прибавим к тому еще, что родные и знакомые, видевшие нашу близость с ней в течение четырех лет, думали, что она меня провела, «qu'elle s'est joue de ce pauvre gargon»[19 - «что она играла беднягой» (фр.)] и очень обидно жалели меня, смотрели все на меня с осторожными улыбками и вообще целую неделю обращались со мной, как с чем-то нежным и хрупким. Иные из женщин в глаза осуждали ее, говоря: «Voila nous autres femmes! Nous pretendons etre meilleurs, que vous autres» (Вот они, наши женщины! Мы делаем вид, чтобы быть лучше, чем она). Однако я помню, ты всегда в спорах говорил, что боишься бедного брака, детей, и говорил, что подвязанная щека у жены или ревматизм у мужа ужаснее всего на свете; а она возражала и старалась идеализировать; а теперь вышла за человека нелюбимого по расчету.
Я прошу кого угодно стать на место самолюбивого влюбленного, очень изощренного в мысли и неопытного на деле двадцатитрехлетнего юноши и спросить себя, каково ему было?
И какими болями всех родов отзывалась эта жертва всесожжения долголетней страсти на алтаре Свободы и Искусства?
И я еще сотой доли подробностей не рассказываю! Сожаление это о благородном и обманутом кокеткой мальчике, признаюсь, убивало мою гордость. А какое-то чувство чести и другой высшей гордости заставляло меня молчать и скрывать лестную истину, несмотря на все мое самолюбие и природную откровенность. Еще дня через четыре после обручения она дала мне свидание в одном саду. Сестры ее были с нею и уехали на пруд в лодке, нарочно, чтобы оставить нас одних. Мы долго прощались в беседке, и она обещала мне вот что:
– Я постараюсь быть ему хорошей женой. Чем он, бедный, виноват! Но если мне станет очень трудно, я напишу тебе, а ты ответь правду – любишь по-прежнему или нет, – и я приеду к тебе так жить.
Жених инстинктом влюбленного вернее всех понимал истину; он бледнел, когда обманутый мальчик входил в комнату, и не скрывал от нее тревог своей ревности.
Итак, я не был ни жертвой, ни обольстителем и обманщиком; я был страдальцем, который с окровавленной раной сердца приносил в жертву и молодую страсть, и надежды на тихое семейное счастье, возможное с такой умной и доброй женщиной, неизвестному будущему поэзии, приключений и славы!..
Я был прав, конечно; но оставаться в прежней среде мне стало до того тяжело, что я, не имея средств уехать из Москвы, ушел под ничтожным предлогом из богатого дома, из хороших комнат в больницу, пролежал там около двух недель со слугами, мужиками и писарями за четыре рубля в месяц.
Итак, мне надо было ехать, притвориться в самом деле уже доктором и, может быть, убить нескольких солдат. Я решился их убить.
Конечно, для молодого человека, матерью довольно женоподобно воспитанного, от природы очень сострадательного и развившего в себе гуманность чтением Занда и Белинского, такое решение было силой. Но упорствовать долго в подобном деле было бы уже не только преступлением, но и презренной слабостью и малодушием, более обидным для молодого поэтического сознания, чем какое-нибудь энергическое преступление. Нельзя было лениться, надо было заботиться. И я начал трудиться в Крыму усерднее других.
Мне сразу дали более ста разных больных. Я решительно первые дни не знал, кто чем болен. Я терялся, но не показывал вида и старался или прописывать невинные вещи, или продолжать то, что давали и делали до меня.
Кроме меня и старшего доктора, которому решительно было все равно, месяца два, кажется, никого у нас из врачей не было. Позднее стали на помощь приезжать другие.
Главный доктор думал только об доходах своих и об отчетах, ведомостях. В этих отчетах он не любил встречать имена очень ученые и редкие. «Что это такое за новости, – говорил он, – «гидатиды печени». Умер? Пишите его в тиф. Тиф натуральное дело; а то еще выговор нам будет от начальства. Переведите этих трех из графы лихорадки в Pneumonia. От Pneumonia тоже многие умирают; а от лихорадки – нехорошо!»
Другие молодые доктора были – или гораздо лучше меня приготовленные, кончили полный курс и лечили свободно и смело; или были до того бессовестны, что им хоть трава не расти.
Я же поступал иначе. От 8 часов утра и до часу, до двух едва кончался обход палат; было много раненых и вообще наружных болезней, которых осмотр берет больше времени через перевязку. После обеда устав требовал второго, хотя бы краткого посещения. Эта военная больница стала моим 5-м курсом, моей практической клиникой. Я вставал в шесть часов, чтобы прочесть что-нибудь о не понятом мною накануне; и после обеда, когда другие играли в карты, я учился опять. Иногда, не понявши ничего в какой-нибудь болезни, я прописывал какое-нибудь слабое лекарство, уходил домой, добивался понимания по книгам и рисункам и после обеда назначал средство серьезнее. Иногда на дежурстве меня будили ночью для принятия новых больных. Другие товарищи этого не делали; я хотел их превзойти в энергии. Меня это утешало. Я делал часто и вскрытия трупов в часовне, приготовляясь по французским и немецким авторам, и скажу, что видеть на трупе, как верно угадана была опасная или неизлечимая болезнь, – это большое наслаждение для начинающего.
Я начал в сентябре свою службу, а к весне 55-го года я уже был другой вследствие этих трудов, опыта и бесед с одним более ученым товарищем, и сам видел и чувствовал огромную в себе разницу. Все стало яснее; сам стал смелее и покойнее; видел и пользу с большою радостью. Скоро пришлось резать руки, пальцы, ноги.
Первый раз у меня немного дрожала рука; а потом – нет. Ампутации, правда, не трудны в смысле приемов; они гораздо легче, например, чем вырезывание опухолей, вправление грыжей и другие так называемые неправильные операции. Раз отнявши ногу на трупе в Московском Анатомическом театре, можно было вспомнить и здесь легко все движения ножа, скальпеля, крючка и пилы. Но разница в чувстве для новичка великая. Резать холодную, мертвую ногу неизвестного человека под руководством доброго и умного Иноземцова; или видеть перед собой умоляющее или спокойно-печальное лицо, вонзать огромный нож в теплое, живое, широкое мясо солдатской ляжки, обливаться самому живой горячей кровью… Решать самому судьбу страдальца, которого уже знаешь в лицо и по имени… Это труднее!.. Однако и это стало все легче и легче. Я сделал в первую зиму семь ампутаций; из этих людей умерли трое, а четверо ушли домой здоровые; эта пропорция для воздуха тесных больниц и изнуренных скорбутом, ранами и лихорадкой людей – очень хорошая. Большего и не требует никто.
Теперь понятно или нет, почему я не мог и не должен был писать в первый год моей военной службы?