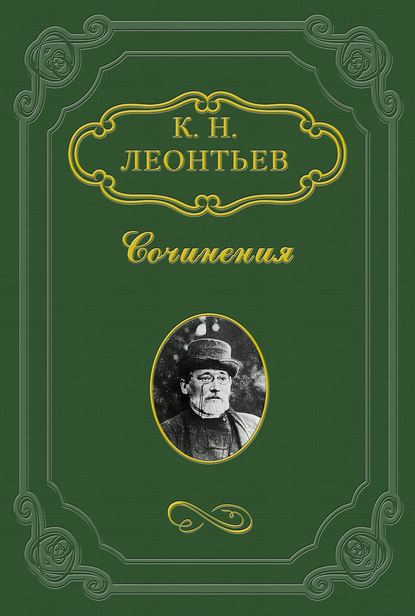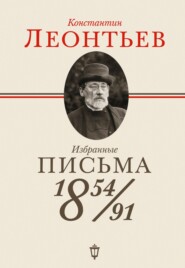По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Мои дела с Тургеневым и т.д. (1851–1861 гг.)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Depuis la semaine derniere…
Decampons, decampons…
и т. д.
И потом:
Adieu, l'poulet, l'dindon!
La faridondaine, la faridondon
Fourrez moi deux dans mon habii,
Biribi,
A la facon de Barbari —
Mon ami… [9 - Отправляйся, мой друг Гизо,Проворно. Это не слишком рано.Дурно пошло наше дело,Потому что парижанеНаходят, что дела пошли нехорошоЗа последнюю неделю…Удираем, удираем…Прощай, цыпленок, дуралей!Фаридонден, фаридонден… (фр.).]
и т. д.
А до того, кто и что будет господствовать в Европе, капитал или труд, буржуазия или еще кто, – мне тогда дела было очень мало; да и бедная молодая голова уже и так едва вмещала всю бездну других новых мыслей, почти внезапно закипевших в ней при переезде в Москву и при переходе в настоящую юность, за 20 лет…
Интересоваться политическими вопросами я стал гораздо позднее этого, годам к тридцати, а понимать их еще позднее. Замечу, кстати, мимоходом, что хотя многие из современных, нынешних юношей гораздо более нас, юношей 50-х годов, интересуются политикой, но из этого они никак не должны заключать, что они и понимают ее лучше нашего. Я полагаю, что умственный закон остается тот же для всех. Юноши увлекаются в ту или другую сторону своими сердечными чувствами; они все более или менее пристрастны в суждениях политических, так или иначе, под влиянием воспитания, личных обстоятельств, удобных или тяжелых и т. п. А ясное государственное суждение может утвердиться только позднее. Исключением могут быть только те из очень молодых людей, которые находились с ранних лет под каким-нибудь очень близким и прямым влиянием старших деятелей практической политики; рано попали, по протекции и связям, на довольно значительные дипломатические должности и в сферы высшей администрации. Я говорю теперь не в смысле консерватизма или либерализма, т. е. не в смысле преданности тому или другому направлению, а только, повторяю, в смысле ясного понимания. Впрочем, относительно нынешних юношей, я, может быть, и ошибаюсь… Не ручаюсь наверное, но встречал я многих из них; а этого ясного понимания и в 70–80-х годах не замечал ни у одного 20–25-летнего… Всем нужно было объяснять почти так же, как дамам или грамотным мужикам…
Если таковы нынешние юноши, то каков же я был по этой части в начале 50-х годов! Я и знать даже ничего подобного не хотел (и, по-моему, это и хорошо; чем меньше мешаются женщины и юноши в государственные дела, тем эти дела лучше идут).
Я вот и запомнил твердо слова Тургенева о том, что Герцен был первый, который высказал о Гоголе такое мнение: «Он бессознательный революционер». Но слова остались в памяти, а влияния на меня непосредственного они вовсе не имели…
Меня все-таки еще долго продолжало гораздо больше интересовать то, что Гоголь лицом на какого-то неприятного полового похож, или то, отчего это у него ни одна женщина в повестях на живую женщину не похожа: или – это старуха вроде Коробочки и Пульхерии Ивановны, или какая-то тень вроде Анунциаты (Рим) и Оксаны; какое-то живописное отражение красивой плоти, не имеющей души… «Очи как молния», «красавица» и т. д. – тогда как все эти совершенства вовсе даже не нужны, чтобы женщина внушала человеку чувство сильной любви… А революционер ли Гоголь или нет – мне не до того было тогда! Просто, наконец, недосуг подумать… О Гоголе я, впрочем, буду вынужден, вероятно, в другом месте довольно подробно и «по-своему» упомянуть…
Упоминал также в этот приезд свой Тургенев о других русских писателях, которых тогда называли «второстепенными» (по сравнению с Пушкиным, Гоголем, Грибоедовым или Лермонтовым), о себе, о Григоровиче, Гончарове, Евг. Тур и Достоевском. Замечу, что первое произведение Льва Толстого «Детство» явилось, кажется, через год или полтора позднее, а Писемский незадолго перед тем (в прошлую зиму 51-го года) напечатал первый свой роман «Тюфяк», о котором почему-то в этот раз Тургенев не упомянул. Моего Георгиевского «Тюфяк» восхитил донельзя, а на меня произвел такое удручающее, отвратительное впечатление своим содержанием, что я долго после этого (до появления «Тысячи душ») и помириться с автором не хотел. «Тюфяк» возмутил меня еще болезненнее «Мертвых душ», ибо, сколько бы ни восхваляли «Мертвые души» и Тургенев, и Белинский, и сам Георгиевский, я, не дерзая еще слишком противоречить этой исповедуемой мною критической троице и не умея даже тогда формулировать мое упорное внутреннее чувство в вид мысли, все-таки смутно чувствовал, что «Мертвые души» не что иное как гениально написанная, односторонняя, преувеличенная карикатура; а «Тюфяк» (увы!) был гораздо реальнее и ближе к действительности, ибо содержание его было живее, полнее; в нем была любовь, было много сердечного чувства… Но тем-то он и казался мне особенно ужасным, этот жалкий, некрасивый, всеми попираемый герой; эти так бессмысленно и так прозаически терзающие друг друга люди! Эта неожиданная и бессмысленная смерть героя в своей глухой деревне от подлой этой холеры, после будничных ссор с женой!.. Это все я находил ужасным и долго за это ненавидел талант Писемского, понимая и признавая его силу… «Зачем такую мерзость и так равнодушно и холодно выбирать!» Вот за что!
О других того времени русских писателях Тургенев говорил мне, что из них только один Гончаров обладает даром «архитектурной постройки», что он обнаружил этот дар в «Обыкновенной истории» (Из «Обломова» в то время был напечатан только один прекрасный отрывок «Сон Обломова»). Ни у себя самого, ни у Григоровича, ни у Дружинина этой «архитектурной» способности Тургенев не находил.
Он очень хвалил «Ошибку» – первую повесть Евг. Тур за то, что в ней слышен «жар искреннего внутреннего чувства». – Эта искренность сильного личного чувства неотразимо действует на читателя, – сказал он.
О повестях Григоровича я не помню, что он именно говорил, но вообще он их мне в поучительный пример не ставил и, видимо, относился к ним холодно и не особенно одобрительно. Я же их очень тогда любил за гуманность их и за милые мне деревенские картины.
О таланте Дружинина, которого тонкий вкус в выборе сюжетов, изящные образы и прекрасный язык я тоже очень ценил и любил тогда, Тургенев отозвался, к удивлению моему, весьма строго и неодобрительно. Он сказал, что только первая его повесть «Полинька Сакс» (весьма в то время любимая публикой) – произведение нормальное и даже положительно хорошее; а все последующие его повести и рассказы дышат ненормальным чувством. Я понял скоро, что Тургенев был прав, и стал осторожнее и недоверчивее относиться к сочинениям этого автора. Позднее Дружинин сам догадался, что ему надо «творчество» бросить, и он стал печатать в «Русском Вестнике» и других изданиях 60-х годов превосходные компиляции, весьма умные, беспристрастные и безукоризненно изящные; о «войне англичан в Индии в 59-м году», например, или о прусском короле Фридрихе I (отце Фридриха Великого и т. п.).
Кстати сказать, Тургенев о Дружинине и с точки зрения личных его свойств отзывался очень для него невыгодно.
– Какое-то напускное разочарование и в то же время «офицерство» самого неприятного оттенка… Он производит на меня отталкивающее впечатление! – сказал он.
Несколько лет спустя я сам, так сказать, попытался познакомиться с Дружининым и тотчас же вспомнил Тургенева и согласился с ним. Впечатление на меня Дружинин произвел тяжелое… Я не знаю, как даже выразиться… Черты лица его были правильны и, пожалуй, красивы… Но что-то непостижимо неестественное в движениях и тоне речей; нечто блуждающее и крайне фальшивое в выражении глаз. В разговоре, в противоположность изяществу и благородству языка его в печати, беспрестанная грубость, грязь, цинизм… Например, я спросил, читал ли он романы: «Eile et Lui» Ж. Занда и ответ Paul de Musset: «Lui et Elle» и хороши ли они? Дружинин отвечал очень грубо и цинично. Конечно – это было очень противно и, главное, как-то к этой вялой и полумертвой фигуре Дружинина ужасно не шло.
О Достоевском Тургенев упомянул только случайно. Достоевский в это время был в Сибири, ничего не печатал и был не то чтобы совсем забыт: забыт вполне он не был: все интересовавшиеся литературой помнили его первую трогательную (хотя и слишком похожую на «Шинель» Гоголя) повесть «Бедные люди»; но он был сослан, кажется, лет на восемь; считался больным и об нем стали мало думать, как мало думают о человеке, хотя и способном, но рано умершем. Тургенев упомянул о нем, я говорю, случайно и с точки зрения личного предостережения мне, начинающему.
– Конечно (сказал он), надо стремиться к высшему. Плохой тот солдат, который не надеется быть генералом. Ни один начинающий писатель не может ручаться, что из него выйдет Гете, но надо стараться, надо стремиться к высшему идеалу. Хотя, с другой стороны, таким молодым людям, как вы, из личного достоинства не надо при первых успехах давать волю своему самолюбию. Вот как, например, случилось с этим несчастным Достоевским. Когда он отдавал свою повесть Белинскому для издания, так увлекся до того, что сказал ему: «Знаете – мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести!» Зачем же делать себя смешным…
Больше ничего о Достоевском мы не говорили. И так, надававши мне много еще и других подобных указаний и полезных литературных наставлений, Тургенев уехал в Петербург, обещая мне успех. Я уже принялся за свои обычные студенческие занятия спокойно и весело, ожидая денег и лестных критических отзывов о моей болезненной, но прочувствованной «Женитьбе по любви».
В октябре я получил от Тургенева из Петербурга следующее письмо.
С.-Петербург.
(3/15 декабря 1851 г.),
понедельник
Я имею сообщить вам неприятную новость, любезный Константин Николаевич: комедия ваша запрещена цензурой от первого слова до последнего. Я этого, признаюсь, никак не предвидел, хотя я и думал, что ее пощиплют. Я на днях получу ее обратно от Краевского и буду ждать дальнейших ваших распоряжений на ее счет. Мне очень досадно, что вы с первого же шага на литературном поприще наткнулись на препятствия, но это не должно лишать вас бодрости: порядочный человек тут-то и должен показать себя; в таких случаях позволяется не апатия, а озлобление. Я вам даже должен сказать, что, следуя правилу по мере возможности извлекать добро из худа, я с некоторой стороны не совсем огорчен этою неудачей. Ваша комедия прекрасная вещь, но в том, что вы мне показывали кроме ее, более условий успеха и цензуре, кажется, не так оно покажется зловредным. Пишите только, не унывая, и дайте мне знать, как вы работаете. Есть еще одна неприятная сторона в этом запрещении: вы, может быть, ожидали денег – и теперь не должны на них рассчитывать. Но и этой беде помочь есть возможность: редакторы «Современника», с которыми я состою в дружеских отношениях, готовы выслать вам вперед в половине этого месяца известную сумму как задаток за ваши будущие произведения. Напишите мне прямо и без обиняков, сколько бы вы желали, и я берусь вам это устроить. А главное, не падайте духом и идите вперед смело и весело.
Мой адрес: на углу Малой Морской и Гороховой, в доме Гиллерме, квартира № 9.
Будьте здоровы. В ожидании вашего ответа жму вам крепко руку и остаюсь преданный вам
Ив. Тургенев.
Как я отнесся к первой моей неудаче? – вот естественный здесь вопрос. Я отнесся к ней до такой степени равнодушно и вообще хорошо, что и сам до сих пор почти удивляюсь этому. Я говорю не просто «удивляюсь», а только «почти», потому что объяснить это спокойствие есть достаточно способов и путей; удивляться же можно только тому, что, при моей тогдашней физической болезненности и крайней душевной впечатлительности, это спокойствие и равнодушие были уже слишком совершенны или слишком полны. Впрочем, не хочу сейчас на этом долго останавливаться; поговорю лучше в другом месте об этих моих психических моментах подробнее, если по ходу рассказа моего это потребуется. Тургенев во 2-м письме своем весьма непохвально разрешает мне «озлобление», чуть не советует его. А я не только теперь не одобряю подобного развращающего молодой ум совета, но, слава Богу, и тогда даже и не подумал – ни на цензуру и ни на кого-либо другого озлобляться… Я так смело, весело и покойно стал тогда вдруг смотреть на свою литературную будущность, что два и три запрещения не могли бы меня поколебать и расстроить…
При таких-то внутренно-благоприятных условиях начался для меня новый 52-й год. Конец 51-го и весь 52-й год – это было в моей юношеской жизни время вообще довольно хорошее; многое разом в эти полтора года неожиданно улыбнулось, многое улучшилось, просветлело, и сам я почти внезапно стал как-то крепнуть, мужать и смелеть….
И если не всему, то очень, очень многому в этом просветлении моей жизни был главной причиной Тургенев. Он наставил и вознес меня; именно вознес; меня нужно было тогда вознести, хотя бы только для того, чтобы поставить на ноги. До того первые два года московской студенческой жизни были для меня жестоки; до того я был безжалостно истерзан и непониманием близких людей, и внешними обстоятельствами, и первыми неожиданными телесными недугами, и бурным вихрем впервые серьезно перерождающейся мысли! Что за горький, что за жестокий процесс этого первого умственного перелома!.. Это ужасно!
Как же мне не быть благодарным Тургеневу; как мне не вспоминать его добром совершенно независимо от того, по каким разным путям мы оба пошли лет 10–15–20 позднее, и несмотря на глубокую до враждебности, пожалуй, разницу в наших с ним позднейших гражданских взглядах и приверженностях.
В начале 52-го года, в феврале, я получил от него из Петербурга одно за другим еще два письма; вот они:
1
С.-Петербург, 2 февраля 1852 г.
Любезный Леонтьев.
Я перед вами весьма виноват; у меня, впрочем, два извинения: шестинедельное мое нездоровье, до сих пор продолжающееся, и желание достать для вас денег от ред. «Современника». Эта редакция оказалась, к сожалению, сильно истощенною по причине уплаты множества старых долгов, и потому позвольте мне предложить вам следующее: я готов от себя дать вам 100 р. сер. вперед взаймы, но так как у меня здесь таких денег нет, то я сегодня же напишу к себе в деревню приказ о высылке вам их по вашему адресу в Москве, заранее рассчитывая на ваше согласие. Жалею, что эта мысль мне раньше не пришла в голову; может быть, вы это время чувствовали то неприятное стеснение безденежья, которое мне так знакомо бывало в дни юности.
Ваша комедия погибла для печати, и скажу вам – я не слишком об этом сожалею: в вас уже теперь таланта гораздо больше, чем на сколько она показывает. Для чего же вводить читателей в обман? Кончайте повесть, о которой вы говорите мне, или хотя 2 первые главы «Булавинского завода». С присовокуплением плана целого романа можно печатать отрывками, как, напр., «Богатый жених» Писемского. Пишите и присылайте мне, как той литературной бабушке, которой суждено принимать ваших рождающихся детей. Жаль, что до сих пор они так неудачно являются на свет.
Я рад, что моя статья вам нравится. Настоящего дела я, по причине цензуры, сказать не мог, и потому она может подать повод к недоразумениям.
Прощайте, любезный К.Н. Желаю вам всевозможных удач и, главное, здоровья. До свидания в мае, но мы до того времени еще будем переписываться.
(За повесть – цензурную – вам «Соврем.» хорошо заплатит. Вот вам самое лучшее средство со мной расплатиться. Присылайте ее поскорей, а уж я ее продам выгодно.)
Жму вам дружески руку.
Ваш Ив. Тургенев.
2
С.-Петербург, 18 февраля 1852 г.
Я только что получил ваше письмо, любезный Константин Николаевич, и собирался уже вам отвечать, как вдруг получил ответ на мое предписание в деревенскую мою контору, что ранее двух недель этих 100 р. вам выслать не могут, за совершенным истощением наличных средств. Вы не можете себе представить, как это мне было досадно, и если б я сам не был в некотором безденежье здесь, я бы тотчас выслал их вам. Нечего делать – прошу меня извинить и подождать две недели. Я вам пишу все это так бесцеремонно потому, что я надеюсь, что между нами церемонии не у места.
Decampons, decampons…
и т. д.
И потом:
Adieu, l'poulet, l'dindon!
La faridondaine, la faridondon
Fourrez moi deux dans mon habii,
Biribi,
A la facon de Barbari —
Mon ami… [9 - Отправляйся, мой друг Гизо,Проворно. Это не слишком рано.Дурно пошло наше дело,Потому что парижанеНаходят, что дела пошли нехорошоЗа последнюю неделю…Удираем, удираем…Прощай, цыпленок, дуралей!Фаридонден, фаридонден… (фр.).]
и т. д.
А до того, кто и что будет господствовать в Европе, капитал или труд, буржуазия или еще кто, – мне тогда дела было очень мало; да и бедная молодая голова уже и так едва вмещала всю бездну других новых мыслей, почти внезапно закипевших в ней при переезде в Москву и при переходе в настоящую юность, за 20 лет…
Интересоваться политическими вопросами я стал гораздо позднее этого, годам к тридцати, а понимать их еще позднее. Замечу, кстати, мимоходом, что хотя многие из современных, нынешних юношей гораздо более нас, юношей 50-х годов, интересуются политикой, но из этого они никак не должны заключать, что они и понимают ее лучше нашего. Я полагаю, что умственный закон остается тот же для всех. Юноши увлекаются в ту или другую сторону своими сердечными чувствами; они все более или менее пристрастны в суждениях политических, так или иначе, под влиянием воспитания, личных обстоятельств, удобных или тяжелых и т. п. А ясное государственное суждение может утвердиться только позднее. Исключением могут быть только те из очень молодых людей, которые находились с ранних лет под каким-нибудь очень близким и прямым влиянием старших деятелей практической политики; рано попали, по протекции и связям, на довольно значительные дипломатические должности и в сферы высшей администрации. Я говорю теперь не в смысле консерватизма или либерализма, т. е. не в смысле преданности тому или другому направлению, а только, повторяю, в смысле ясного понимания. Впрочем, относительно нынешних юношей, я, может быть, и ошибаюсь… Не ручаюсь наверное, но встречал я многих из них; а этого ясного понимания и в 70–80-х годах не замечал ни у одного 20–25-летнего… Всем нужно было объяснять почти так же, как дамам или грамотным мужикам…
Если таковы нынешние юноши, то каков же я был по этой части в начале 50-х годов! Я и знать даже ничего подобного не хотел (и, по-моему, это и хорошо; чем меньше мешаются женщины и юноши в государственные дела, тем эти дела лучше идут).
Я вот и запомнил твердо слова Тургенева о том, что Герцен был первый, который высказал о Гоголе такое мнение: «Он бессознательный революционер». Но слова остались в памяти, а влияния на меня непосредственного они вовсе не имели…
Меня все-таки еще долго продолжало гораздо больше интересовать то, что Гоголь лицом на какого-то неприятного полового похож, или то, отчего это у него ни одна женщина в повестях на живую женщину не похожа: или – это старуха вроде Коробочки и Пульхерии Ивановны, или какая-то тень вроде Анунциаты (Рим) и Оксаны; какое-то живописное отражение красивой плоти, не имеющей души… «Очи как молния», «красавица» и т. д. – тогда как все эти совершенства вовсе даже не нужны, чтобы женщина внушала человеку чувство сильной любви… А революционер ли Гоголь или нет – мне не до того было тогда! Просто, наконец, недосуг подумать… О Гоголе я, впрочем, буду вынужден, вероятно, в другом месте довольно подробно и «по-своему» упомянуть…
Упоминал также в этот приезд свой Тургенев о других русских писателях, которых тогда называли «второстепенными» (по сравнению с Пушкиным, Гоголем, Грибоедовым или Лермонтовым), о себе, о Григоровиче, Гончарове, Евг. Тур и Достоевском. Замечу, что первое произведение Льва Толстого «Детство» явилось, кажется, через год или полтора позднее, а Писемский незадолго перед тем (в прошлую зиму 51-го года) напечатал первый свой роман «Тюфяк», о котором почему-то в этот раз Тургенев не упомянул. Моего Георгиевского «Тюфяк» восхитил донельзя, а на меня произвел такое удручающее, отвратительное впечатление своим содержанием, что я долго после этого (до появления «Тысячи душ») и помириться с автором не хотел. «Тюфяк» возмутил меня еще болезненнее «Мертвых душ», ибо, сколько бы ни восхваляли «Мертвые души» и Тургенев, и Белинский, и сам Георгиевский, я, не дерзая еще слишком противоречить этой исповедуемой мною критической троице и не умея даже тогда формулировать мое упорное внутреннее чувство в вид мысли, все-таки смутно чувствовал, что «Мертвые души» не что иное как гениально написанная, односторонняя, преувеличенная карикатура; а «Тюфяк» (увы!) был гораздо реальнее и ближе к действительности, ибо содержание его было живее, полнее; в нем была любовь, было много сердечного чувства… Но тем-то он и казался мне особенно ужасным, этот жалкий, некрасивый, всеми попираемый герой; эти так бессмысленно и так прозаически терзающие друг друга люди! Эта неожиданная и бессмысленная смерть героя в своей глухой деревне от подлой этой холеры, после будничных ссор с женой!.. Это все я находил ужасным и долго за это ненавидел талант Писемского, понимая и признавая его силу… «Зачем такую мерзость и так равнодушно и холодно выбирать!» Вот за что!
О других того времени русских писателях Тургенев говорил мне, что из них только один Гончаров обладает даром «архитектурной постройки», что он обнаружил этот дар в «Обыкновенной истории» (Из «Обломова» в то время был напечатан только один прекрасный отрывок «Сон Обломова»). Ни у себя самого, ни у Григоровича, ни у Дружинина этой «архитектурной» способности Тургенев не находил.
Он очень хвалил «Ошибку» – первую повесть Евг. Тур за то, что в ней слышен «жар искреннего внутреннего чувства». – Эта искренность сильного личного чувства неотразимо действует на читателя, – сказал он.
О повестях Григоровича я не помню, что он именно говорил, но вообще он их мне в поучительный пример не ставил и, видимо, относился к ним холодно и не особенно одобрительно. Я же их очень тогда любил за гуманность их и за милые мне деревенские картины.
О таланте Дружинина, которого тонкий вкус в выборе сюжетов, изящные образы и прекрасный язык я тоже очень ценил и любил тогда, Тургенев отозвался, к удивлению моему, весьма строго и неодобрительно. Он сказал, что только первая его повесть «Полинька Сакс» (весьма в то время любимая публикой) – произведение нормальное и даже положительно хорошее; а все последующие его повести и рассказы дышат ненормальным чувством. Я понял скоро, что Тургенев был прав, и стал осторожнее и недоверчивее относиться к сочинениям этого автора. Позднее Дружинин сам догадался, что ему надо «творчество» бросить, и он стал печатать в «Русском Вестнике» и других изданиях 60-х годов превосходные компиляции, весьма умные, беспристрастные и безукоризненно изящные; о «войне англичан в Индии в 59-м году», например, или о прусском короле Фридрихе I (отце Фридриха Великого и т. п.).
Кстати сказать, Тургенев о Дружинине и с точки зрения личных его свойств отзывался очень для него невыгодно.
– Какое-то напускное разочарование и в то же время «офицерство» самого неприятного оттенка… Он производит на меня отталкивающее впечатление! – сказал он.
Несколько лет спустя я сам, так сказать, попытался познакомиться с Дружининым и тотчас же вспомнил Тургенева и согласился с ним. Впечатление на меня Дружинин произвел тяжелое… Я не знаю, как даже выразиться… Черты лица его были правильны и, пожалуй, красивы… Но что-то непостижимо неестественное в движениях и тоне речей; нечто блуждающее и крайне фальшивое в выражении глаз. В разговоре, в противоположность изяществу и благородству языка его в печати, беспрестанная грубость, грязь, цинизм… Например, я спросил, читал ли он романы: «Eile et Lui» Ж. Занда и ответ Paul de Musset: «Lui et Elle» и хороши ли они? Дружинин отвечал очень грубо и цинично. Конечно – это было очень противно и, главное, как-то к этой вялой и полумертвой фигуре Дружинина ужасно не шло.
О Достоевском Тургенев упомянул только случайно. Достоевский в это время был в Сибири, ничего не печатал и был не то чтобы совсем забыт: забыт вполне он не был: все интересовавшиеся литературой помнили его первую трогательную (хотя и слишком похожую на «Шинель» Гоголя) повесть «Бедные люди»; но он был сослан, кажется, лет на восемь; считался больным и об нем стали мало думать, как мало думают о человеке, хотя и способном, но рано умершем. Тургенев упомянул о нем, я говорю, случайно и с точки зрения личного предостережения мне, начинающему.
– Конечно (сказал он), надо стремиться к высшему. Плохой тот солдат, который не надеется быть генералом. Ни один начинающий писатель не может ручаться, что из него выйдет Гете, но надо стараться, надо стремиться к высшему идеалу. Хотя, с другой стороны, таким молодым людям, как вы, из личного достоинства не надо при первых успехах давать волю своему самолюбию. Вот как, например, случилось с этим несчастным Достоевским. Когда он отдавал свою повесть Белинскому для издания, так увлекся до того, что сказал ему: «Знаете – мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести!» Зачем же делать себя смешным…
Больше ничего о Достоевском мы не говорили. И так, надававши мне много еще и других подобных указаний и полезных литературных наставлений, Тургенев уехал в Петербург, обещая мне успех. Я уже принялся за свои обычные студенческие занятия спокойно и весело, ожидая денег и лестных критических отзывов о моей болезненной, но прочувствованной «Женитьбе по любви».
В октябре я получил от Тургенева из Петербурга следующее письмо.
С.-Петербург.
(3/15 декабря 1851 г.),
понедельник
Я имею сообщить вам неприятную новость, любезный Константин Николаевич: комедия ваша запрещена цензурой от первого слова до последнего. Я этого, признаюсь, никак не предвидел, хотя я и думал, что ее пощиплют. Я на днях получу ее обратно от Краевского и буду ждать дальнейших ваших распоряжений на ее счет. Мне очень досадно, что вы с первого же шага на литературном поприще наткнулись на препятствия, но это не должно лишать вас бодрости: порядочный человек тут-то и должен показать себя; в таких случаях позволяется не апатия, а озлобление. Я вам даже должен сказать, что, следуя правилу по мере возможности извлекать добро из худа, я с некоторой стороны не совсем огорчен этою неудачей. Ваша комедия прекрасная вещь, но в том, что вы мне показывали кроме ее, более условий успеха и цензуре, кажется, не так оно покажется зловредным. Пишите только, не унывая, и дайте мне знать, как вы работаете. Есть еще одна неприятная сторона в этом запрещении: вы, может быть, ожидали денег – и теперь не должны на них рассчитывать. Но и этой беде помочь есть возможность: редакторы «Современника», с которыми я состою в дружеских отношениях, готовы выслать вам вперед в половине этого месяца известную сумму как задаток за ваши будущие произведения. Напишите мне прямо и без обиняков, сколько бы вы желали, и я берусь вам это устроить. А главное, не падайте духом и идите вперед смело и весело.
Мой адрес: на углу Малой Морской и Гороховой, в доме Гиллерме, квартира № 9.
Будьте здоровы. В ожидании вашего ответа жму вам крепко руку и остаюсь преданный вам
Ив. Тургенев.
Как я отнесся к первой моей неудаче? – вот естественный здесь вопрос. Я отнесся к ней до такой степени равнодушно и вообще хорошо, что и сам до сих пор почти удивляюсь этому. Я говорю не просто «удивляюсь», а только «почти», потому что объяснить это спокойствие есть достаточно способов и путей; удивляться же можно только тому, что, при моей тогдашней физической болезненности и крайней душевной впечатлительности, это спокойствие и равнодушие были уже слишком совершенны или слишком полны. Впрочем, не хочу сейчас на этом долго останавливаться; поговорю лучше в другом месте об этих моих психических моментах подробнее, если по ходу рассказа моего это потребуется. Тургенев во 2-м письме своем весьма непохвально разрешает мне «озлобление», чуть не советует его. А я не только теперь не одобряю подобного развращающего молодой ум совета, но, слава Богу, и тогда даже и не подумал – ни на цензуру и ни на кого-либо другого озлобляться… Я так смело, весело и покойно стал тогда вдруг смотреть на свою литературную будущность, что два и три запрещения не могли бы меня поколебать и расстроить…
При таких-то внутренно-благоприятных условиях начался для меня новый 52-й год. Конец 51-го и весь 52-й год – это было в моей юношеской жизни время вообще довольно хорошее; многое разом в эти полтора года неожиданно улыбнулось, многое улучшилось, просветлело, и сам я почти внезапно стал как-то крепнуть, мужать и смелеть….
И если не всему, то очень, очень многому в этом просветлении моей жизни был главной причиной Тургенев. Он наставил и вознес меня; именно вознес; меня нужно было тогда вознести, хотя бы только для того, чтобы поставить на ноги. До того первые два года московской студенческой жизни были для меня жестоки; до того я был безжалостно истерзан и непониманием близких людей, и внешними обстоятельствами, и первыми неожиданными телесными недугами, и бурным вихрем впервые серьезно перерождающейся мысли! Что за горький, что за жестокий процесс этого первого умственного перелома!.. Это ужасно!
Как же мне не быть благодарным Тургеневу; как мне не вспоминать его добром совершенно независимо от того, по каким разным путям мы оба пошли лет 10–15–20 позднее, и несмотря на глубокую до враждебности, пожалуй, разницу в наших с ним позднейших гражданских взглядах и приверженностях.
В начале 52-го года, в феврале, я получил от него из Петербурга одно за другим еще два письма; вот они:
1
С.-Петербург, 2 февраля 1852 г.
Любезный Леонтьев.
Я перед вами весьма виноват; у меня, впрочем, два извинения: шестинедельное мое нездоровье, до сих пор продолжающееся, и желание достать для вас денег от ред. «Современника». Эта редакция оказалась, к сожалению, сильно истощенною по причине уплаты множества старых долгов, и потому позвольте мне предложить вам следующее: я готов от себя дать вам 100 р. сер. вперед взаймы, но так как у меня здесь таких денег нет, то я сегодня же напишу к себе в деревню приказ о высылке вам их по вашему адресу в Москве, заранее рассчитывая на ваше согласие. Жалею, что эта мысль мне раньше не пришла в голову; может быть, вы это время чувствовали то неприятное стеснение безденежья, которое мне так знакомо бывало в дни юности.
Ваша комедия погибла для печати, и скажу вам – я не слишком об этом сожалею: в вас уже теперь таланта гораздо больше, чем на сколько она показывает. Для чего же вводить читателей в обман? Кончайте повесть, о которой вы говорите мне, или хотя 2 первые главы «Булавинского завода». С присовокуплением плана целого романа можно печатать отрывками, как, напр., «Богатый жених» Писемского. Пишите и присылайте мне, как той литературной бабушке, которой суждено принимать ваших рождающихся детей. Жаль, что до сих пор они так неудачно являются на свет.
Я рад, что моя статья вам нравится. Настоящего дела я, по причине цензуры, сказать не мог, и потому она может подать повод к недоразумениям.
Прощайте, любезный К.Н. Желаю вам всевозможных удач и, главное, здоровья. До свидания в мае, но мы до того времени еще будем переписываться.
(За повесть – цензурную – вам «Соврем.» хорошо заплатит. Вот вам самое лучшее средство со мной расплатиться. Присылайте ее поскорей, а уж я ее продам выгодно.)
Жму вам дружески руку.
Ваш Ив. Тургенев.
2
С.-Петербург, 18 февраля 1852 г.
Я только что получил ваше письмо, любезный Константин Николаевич, и собирался уже вам отвечать, как вдруг получил ответ на мое предписание в деревенскую мою контору, что ранее двух недель этих 100 р. вам выслать не могут, за совершенным истощением наличных средств. Вы не можете себе представить, как это мне было досадно, и если б я сам не был в некотором безденежье здесь, я бы тотчас выслал их вам. Нечего делать – прошу меня извинить и подождать две недели. Я вам пишу все это так бесцеремонно потому, что я надеюсь, что между нами церемонии не у места.