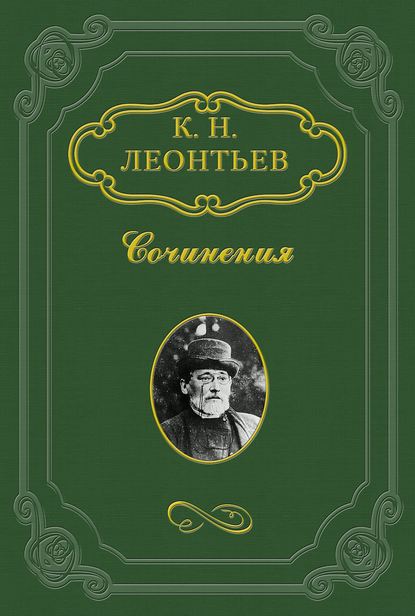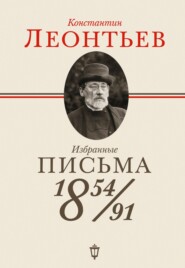По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Египетский голубь
Год написания книги
1881
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
VI
Мы слышали только голоса хозяина нашего и Блуменфельда; но кроме их в гостиную вошло еще трое гостей: неизбежный наш Несвицкий, Нагибин, тот самый молодой чиновник почтового русского ведомства в Царьграде, который сшил мне платье, и третий тоже очень еще молодой вице-консул наш в Варне, просто Петров. Вячеслава Нагибина я уже описал в нескольких словах.
Петров был человек совсем другого рода. Он был пламенный панславист; для России охранитель, революционер для Востока, вечно занятый болгарскими или сербскими делами; горячий, стремительный, прямой до неосторожности (это он сказал, при дамах, на обеде, что только свиньи ездят в Париж); со всеми фамильярный, почти без различия звания и чина; нервный, худой и бледный, одетый всегда небрежно, как попало, он, казалось, ничего вокруг себя не замечал и почти не хотел знать, кроме политических интересов и политических дел. Волоса у него были всегда острижены под гребенку и приподняты щеткой; он был постоянно возбужден, постоянно как бы вне себя; говоря, то наступал на собеседника, то отскакивал от него, широко раскрывая глаза низлагая свои любимые мысли бесстрашно, пламенно, часто слишком даже нерасчетливо-прямо; вот каков был Петров.
Турки любили его за доброту и простоту обращения, но постоянно жаловались, что его пармак (палец) везде где не надо, и уверяли, что он чуть не с тарелкой ходит собирать на восстание христиан и т. д.
Петров делал множество ошибок, но зато был незаменим во многих случаях; в среде христиан он был чрезвычайно популярен, и начальство принуждено было многое ему прощать. С течением годов характер его выровнялся; он устоялся, достиг высших должностей, и его имя останется навсегда в истории последних дней Оттоманской Империи.
Но в это время над ним много подтрунивали товарищи; он только что поссорился с пашой из-за одной пленной славянки, которая его обманула, по согласию с турками; приехал в Царьград жаловаться и хлопотать об удовлетворении; удовлетворения ему не дали и основательно признали его неправым. Легкомысленные товарищи смеялись над его пылкими и сентиментальными отношениями к «угнетенным братьям-славянам» и сочинили – будто одно из его донесений начиналось так:
«Милостивый государь, Ее имя было Милена! Она была сирота…»
Петров горячился, отбивался, ссорился, но все так прямодушно, честно и просто, что его продолжали любить и уважать.
Все четверо – Блуменфельд, «вестовой», Петров и Вячеслав, вошли в гостиную вслед за хозяином.
Блуменфельд с первых минут уже обнаружил свою придирчивость. Когда хозяин дома представил Вячеслава Нагибина мадам Антониади и ее белой с красным подруге, Блуменфельд не мог оставить в покое молодого человека и тотчас же вслед за хозяином, сказавшим просто: «Monsieur Нагибин!» воскликнул: «известный всем более под именем l'irrеsistible boyard russe Wenceslas…»
Скромный боярин ничего на это не возразил.
Потом Блуменфельд обратился ко мне и с видом особенно стремительным сказал:
– А! молодой человек, и вы здесь… Очень рад, очень счастлив…
На это я ничего не ответил, но тотчас же «вооружился» внутренно и сказал себе: «Я сам его первый затрону…» И ждал случая.
Завтрак был оживленный. Хозяин сам ел много, пил и нам всем подливал хорошего вина.
Несвицкий сел около мадам Антониади и очень скучным тоном, как всегда, начал что-то тянуть про встречу нового посланника, про знатное родство и генеалогию его супруги и про то, кому и как ехать в Порту для исполнения некоторых формальностей; идет теперь спор: первый драгоман посольства говорит, что он едет в Порту и берет с собой первого секретаря; а первый секретарь, на основании точных справок у Мартенса, Валлата, Пинейро-Феррейро и других, доказывал, что в Порту едет он, первый секретарь, и берет с собой первого драгомана.
Я ничего не имел против этих формальностей; но раздушенный «вестовой» умел придать всему, до чего он только ни касался, такую несносную пустоту и скуку, и солдатское лицо его представляло такой неизящный контраст с галантерейным ничтожеством его речей, что не только я, но и сам лукавый простак хозяин наш вдруг прервал его возгласом:
– А! Ба! Voyons! Оставим это… все эти дьявольские формальности… Я замечу с моей стороны, что новая посланница прекрасна…
– У нее профиль камеи, – сказала его почтенная кузина.
Хозяин обратился к Блуменфельду:
– А вы, угрюмый человек, оставьте вашу суровость и скажите нам что-нибудь… что-нибудь приятное, любезное, интересное… Как вы умеете, когда вы в духе… Скажите даже что-нибудь злое, если хотите…
Блуменфельд улыбнулся и отвечал:
– Я скажу нечто любезное, а не злое. Ваш армянин делает прекрасные котлеты… Я так ими занят, что не нахожу времени ни для чего другого…
– Кто и что вам больше всего понравилось при сегодняшней встрече? – спросила у Блуменфельда мадам Антониади.
Блуменфельд усмехнулся и сказал:
– Мне больше всего понравилась маленькая китайская собачка…
Все засмеялись.
«Вестовой» поморщился; он был недоволен, что хозяин и Блуменфельд прервали таким вздором его глубокие рассуждения о дипломатических церемониях… Потом спохватился и, принужденно улыбнувшись, начал рассказывать об этой самой собачке.
– Да, эта собака историческая. Когда союзные войска взяли Пекин и Китайский Император, как известно, бежал в Монголию, – во дворце не нашли ни души… Только маленькие собачки бегали по залам и лаяли. Одну из таких собачек…
Но Блуменфельд, насытившись котлетами, уже опять с двусмысленным взглядом и с раздражающею улыбкой взглянул в эту минуту по очереди на меня и на Нагибина.
Я снова готовился защитить боярина Вячеслава или дать отпор за себя, но он почему-то заблагорассудил оставить нас пока в покое; я спрашивал себя, на кого он теперь накинется. Жребий выпал Петрову.
– А! Петров, я забыл вам сказать новость. В канцелярию пришла бумага из Порты: турки требуют белье Милены, которое осталось у вас в чемодане…
Добрый и умный Петров не сконфузился и отвечал очень просто:
– Неужели? Они требуют?.. Ну, что же… Я все доставлю. Там, кажется, лишь несколько платков и два фартука…
– Вы бы хоть один платочек сохранили на память, – сказал Блуменфельд как только мог нежнее.
– На что мне платок, – возразил Петров, – я и так этой истории не забуду; я чрез нее имел столько неприятностей! Разве можно забыть, когда со стороны своих русских ничего не видишь, кроме предательства… Если бы меня поддержали вовремя, то все бы кончилось хорошо…
– Je demande une rеparation еclatante! – воскликнул Блуменфельд с комическою важностью.
Петров ничего не отвечал на эту последнюю выходку и, желая, вероятно, переменить разговор, обратился к хозяину с вопросом:
– Я давеча поутру забыл у вас несколько болгарских книжек, связанных вместе… Где они? Мне они очень нужны…
Хозяин указал на окно, где лежала связка… Но Блуменфельд не унимался:
– Отдайте, отдайте их скорее Петрову. Очистите поскорее воздух вашего жилища… «Блъгрски читанки»… «Блъгрски читанки»… Не правда ли, какой благозвучный язык этих братьев-славян…
Мне захотелось поддержать Петрова; я вмешался и сказал:
– Это правда, что все эти языки, и сербский, и чешский, и даже польский, нам с непривычки кажутся чуть не карикатурами на русский… «Стрелять – пуцать»… «Человек, чилекот»… Конечно, это смешно. Но надо определить все это точнее и отдать себе ясный отчет. Звуки других языков, совершенно нам чуждых по корню… не могут так оскорблять наш слух… например, французский, турецкий или греческий… Хлеб – экмек, псоми, du pain… Здесь мы встречаемся со звуками, совершенно новыми, которые могут показаться странными, но ничего смешного или глупого не могут нам представлять.
Нетерпеливый Петров, которого я вздумал защищать, вдруг перебил, напал на меня и начал обвинять меня в расположении ко всему иностранному, в какой-то «великосветской», как он выразился, причудливости вкусов.
– Это один предрассудок, женский каприз: почему «пуцать» хуже, чем «стрелять» – я не знаю… Это распущенность ума, кокетство, вроде женского!.. – выходил он из себя… расширяя на меня глаза, как будто он хотел перепрыгнуть чрез стол и растерзать меня…
– Постойте, – сказал я, – постойте, дайте мне уяснить мою мысль…
Но в ту минуту, когда Петров обвинял меня в великосветских претензиях и умственном капризе, Блуменфельд, найдя, что я предаюсь педантизму и довожу основательность моего тона до смешного, не дал мне договорить и с лукавым взглядом, наклоняя немного голову набок, произнес насмешливо, не своим голосом, с какою-то особенною грацией, как какая-нибудь плохая дама, растаявшая пред плохим писателем:
– Отчего же вы обо всем этом не напишете диссертации, статьи, этюда, молодой человек… очерка, чтоб это все определить точнее и отдать ясный отчет, если не другим, потому что это невозможно, то хоть самому себе…
Это было слишком! Прошла минута молчания, и я ответил на это так:
– Теперь я занят другим. Я хочу написать что-нибудь о жизни в Буюк-Дере и описать вас… Знаете, как нынче пишут: «Дверь отворилась. Вошел молодой человек высокого роста и с небрежными движениями; лицо его довольно, впрочем, приятное, несмотря на частые улыбочки, выражало какую-то скуку и претензию на разочарование и пренебрежение ко всему… Хотя никто не мог понять, какие он на это имеет права…»