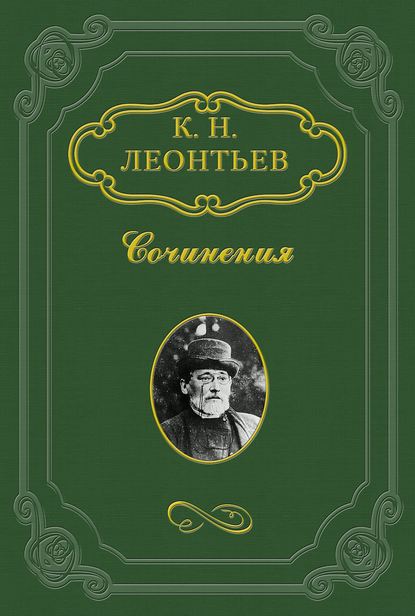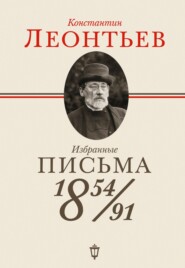По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Египетский голубь
Год написания книги
1881
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не знаю хорошо что именно, но что-то особое…
Я сел и начал о чем-то говорить с привлекательною кузиной… О чем мы говорили, не помню; но помню только приятные движения ее головы и ее улыбки, ее одобрения. Я говорил, должно быть, недурно; хотя и не помню о чем, но я знаю, что, обращаясь к ней, я говорил не для нее, а для той, которая сидела у окна.
Мадам Антониади шептала в это время что-то дочери, показывая ей на Босфор.
Кузина хозяина обратилась к ней и спросила: «Вы начинаете свыкаться с нашим Востоком?»
Я еще не слыхал в это утро ее музыкального голоса и ждал, что она скажет; но она сказала очень обыкновенную вещь: «Природа здесь восхитительна; но общество здешнее я недостаточно еще знаю, чтоб об нем судить».
– Здесь не одно общество, а двадцать разных, – отвечала кузина.
В эту минуту раздались пушечные выстрелы… «Тамань» была уже близко…
Мадам Антониади вздрогнула; девочка запрыгала у окошка, спрашивая:
– C'est le ministre, maman? c'est le ministre?..
Мы все поспешили к окнам…
Выстрелы раздавались один за другим; стреляли турецкие пушки и с одного русского военного, случайно зашедшего в Босфор…
«Тамань» уже была видна из наших окон… Пред деревянною пристанью, против ворот Миссии, качалась лодка, готовая вести весь персонал посольский навстречу послу. «Тамань» остановилась. Выстрелы не умолкали… Чиновники наши толпой во фраках и цилиндрах спешили к пристани вослед за поверенным в делах. Они сели в лодки и поплыли к пароходу.
– Mon gros cousin est tout essoufflе, je suppose, – сказала мне с улыбкой мадам Калерджи, кузина хозяина.
– Какой прекрасный, почтенный человек ваш cousin! – заметил ни с того ни с сего г. Антониади с натянутым восторгом.
– Да, он очень добр, – прибавила жена его равнодушно и потом вдруг, обращаясь ко мне, спросила: – отчего вы не участвуете в этой церемонии?
– Я не принадлежу к посольству. Я здесь в гостях, на время. Я только могу быть зрителем.
– Восток вам нравится? – спросила она еще.
– Ужасно, – отвечал я с жаром.
– Что ж вам именно нравится, я бы желала знать? Это очень любопытно…
Я пожал только плечами и ответил, что для меня непонятно, как может Восток не нравиться…
– Вас удивляет, кажется, мой вопрос? – сказала она.
– Да, удивляет, – сказал я. – Здесь все… или почти все хорошо.
– Это не объяснение, – возразила она с милою улыбкой.
Дочь ее перебила нас в эту минуту; она хотела знать: Что теперь будет? – Отчего le ministre не едет сюда? Что он теперь делает?.. Есть ли у него жена и дети?
Мне пришлось с досадой объяснять все этой девочке, так как мать сказала ей, что я все это лучше ее знаю… Я сказал, что у посланника есть жена очень молодая, красивая и богатая, что есть пока еще один только маленький сын и что посланник принимает теперь на пароход поверенного в делах и будущих подчиненных своих, но, вероятно, скоро будет на берег… Я говорил все это терпеливо и вежливым голосом, но глядел на девочку очень сухо и внушительно, чтоб отнять у нее охоту обращаться еще раз ко мне.
Мать заметила эту досаду и, улыбнувшись, сказала дочери по-гречески: «Не надоедай своими вопросами».
Освободившись на минуту от докучного ребенка, я начал так:
– О Востоке надо или говорить много и основательно, или отделываться такими фразами, что природа хороша, что все это очень оригинально, но что общества здесь нет…
Я хотел развить мою мысль дальше, но за спиной моей и очень близко раздался голос вставшего со своего места мужа:
– Вы называете это фразами? Но ведь это истины о Востоке… Почему же вы называете это фразами?
Я не заметил, как он приблизился, и чуть не вздрогнул от этой неприятной неожиданности.
Он, улыбаясь немного, щипал одною рукой свои чорные, длинные и смолистые бакенбарды…
Одну секунду от новой и мгновенной досады я не знал, что отвечать, но тотчас же справился с собой и сказал:
– Да, я считаю это фразами, потому что все это говорится без мысли и безо всякого живого, личного чувства. Слышат это друг от друга; вкуса мало; идеалы жизни ложные, какие-то парижские…
– Почему же парижские, – возразил муж. – Люди и сами могут судить. А если жители Парижа делают верные замечания, почему же отвергать истину по предубеждению…
– Что такое истина? – спросил я, как Пилат, не найдя на первую минуту ничего лучшего (мне хотелось отвечать ему дерзко и грубо, хотелось сказать, как сказал недавно еще при целом обществе, очень высоком, один из наших консулов, человек очень горячий по характеру: «Кто ж ездит в Париж теперь? Разве какие-нибудь свиньи?» Но, конечно, я воздержался.)…
– Во всем сомнения? Пирронизм?! – с легким и почти насмешливым поклоном заметил хиосский торговец и, прекращая спор, прибавил, глядя в сторону «Тамани»:
– Вот, кажется, посланник съезжает на берег…
Все глаза (кроме моих) опять устремились на синие и тихие воды прекрасного пролива… Я говорю: кроме моих, потому что в эту минуту чета Антониади интересовала меня больше всего, и эти несколько язвительные возражения мужа, и моя собственная, как мне казалось, ненаходчивость меня взволновали больше, чем я мог ожидать при первой встрече с людьми незнакомыми, к которым я должен был бы быть совершенно равнодушным…
Но… увы, я уже с первого взгляда вполне равнодушен не был…
V
Я не помню, как и на чем ехал посланник с парохода до пристани, на посольском ли каике или на военном каком-нибудь катере, я не помню, была ли и в это время пушечная пальба или нет. Я не помню даже, глядел ли я в окно в эти минуты или нет. Вероятно, глядел; но был до того равнодушен ко всему церемониалу, что у меня не осталось в памяти никакого впечатления. Я помню только одно, что я был не в духе. «Пирронизм! Пирронизм!» Зачем хиосскому купцу и такому неприятному знать так твердо названия философских систем!..
Посланник приближался к пристани.
– Жена его с ним! жена! – говорила бледная девочка, прыгая у окна.
Старшие все молчали.
Посланник и посланница вышли на берег.
Посланница шла одна впереди. Посланник следовал за нею. Посланница была одета очень скромно, в чем-то сером и в круглой шляпе.
– Она очень молода! – заметила кузина хозяина.
– Но отчего она так бледна? – спросила нежно и жалостно белая дама с красными веками.
– Вчера была буря; она, вероятно, страдала, – сказал Антониади.