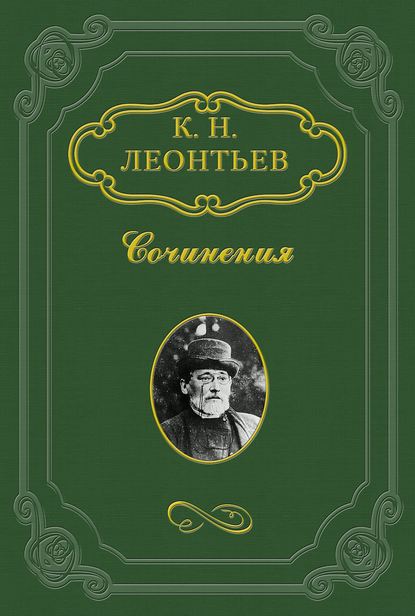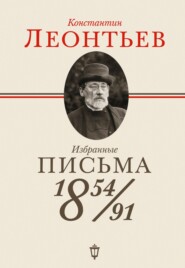По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Египетский голубь
Год написания книги
1881
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И этот тесный гроб! и эти гвозди!., и земля!., и боль, и тоска последней борьбы…
Кто, кроме святого человека, забывшего плоть, может помириться с холодным ужасом этого близкого и неизбежного конца?..
А я, как неразумный зверь, держусь изо всех сил моих за мое никому уже не нужное существование… держусь за него без угрызений, без стыда и пред людьми, и пред самим собою. На что мне стыд? На что мне люди, кроме тех людей, которые мне служат и которым, слава Богу, дела нет до моего внутреннего достоинства.
Какой же смысл будет иметь для меня принуждение в труде, подобном этому рассказу?..
Правда, была одна черта в истории моих сношений с этою женщиной, черта дорогая и редкая в жизни… Мы расстались без пресыщения, без горечи, без распрей, без раскаяния, безо всякой примеси того яда, который таится почти всегда на дне благоухающего сосуда восторженной любви…
Других я любил гораздо сильнее, продолжительнее, самоотверженнее, быть может, но ясности и чистоты воспоминаний нет…
И что же? Неужели только моя «честность» или ее «чувство супружеского долга» восторжествовали над легкомысленною страстью? Увы! нет! нет!.. Разгадка здесь иная, – гораздо более таинственная.
И вот я решил не принуждать себя более… Если эта разгадка должна быть обнаружена, если суждено ей быть достоянием праздного любопытства посторонних, то желание продолжать рассказ явится у меня само собою, и я его кончу.
А если нет – нет!»
Этим кончаются отрывки в записках Ладнева. «Желание явилось», и рассказ его принял опять довольно правильное течение.
XXI
Я об Велико не забыл. Я долго не писал о нем. Это правда. Писать разом нельзя обо всем том, что в жизни совершается почти в одно и то же время.
Я его видел каждый день и постоянно о нем думал и заботился. Наш vis-?-vis – женатый польский офицер, которого так опасался старик Христо, скоро перестал тревожить меня; он выходил, выезжал с женой в карете; до нас он ничуть не касался; Велико, сам испуганный этим соседством, дверь теперь никому не отворял; напротив того, он прятался подальше, как только раздавался стук железного кольца на наших воротах. Кавассы наши, хотя и мусульмане, были очень верны. Посторонние турки у меня бывали редко; на визиты пашей я, как секретарь, претендовать еще не мог; младшие турецкие чиновники и беи, хотя и любили общество русских, но, опасаясь, чтобы свое начальство не подозревало их в чем-нибудь политическом, редко позволяли себе близкие сношения с иностранными агентами и помощниками их.
Все это было бы не страшно. Но был один человек в Адрианополе, которого посещения стали меня опять в это время тревожить. Это был все тот же неугомонный Виллартон; по мере того как Богатырев все больше и больше старался отдалить его от себя, он все чаще и чаще стал звать меня к себе, угощал обедами и хорошим вином, ездил со мной верхом за город и сам заходил ко мне не раз. Вот он-то и казался мне опасным, если не для самого Велико, то для «приличий» нашей службы и для сохранения хороших отношений с местною властью. Велико мы могли бы еще кое-как спасти, но удобно ли будет, например, получать «ноты» о том, что мы скрываем у себя дезертира? И как отнесется посольство наше к нашим действиям, если мы не сумеем быть ловкими? Наше начальство было умно и требовало ума и от нас; этого рода дела надо судить по-спартански: «можно и даже должно иногда украсть, но не должно попадаться». Турки также готовы были нередко смотреть сквозь пальцы на наши проделки («les intrigues moscovites»), но лишь при условии соблюдения с нашей стороны хоть внешнего уважения к их законным правам. Думая обо всем этом, я ни на минуту не забывал и того, что скоро конец моей безответственности и недалек тот день, в который я провожу Богатырева верхом за город до садов Хадум-Ага и вернусь в город один, хозяином русских дел во Фракии. Я предвидел также, что некоторые крайности, в которые впал недавно Богатырев по отношению к Виллартону, облегчат во многом мою будущую деятельность.
Богатырев, при своей хитрости и здравой осторожности, увлекся на этот раз и ежедневными удачами своими и каким-то личным капризом жестокости. Он через меру терзал самолюбие английского консула и как бы тешился его несомненными страданиями. Я думаю даже, что впечатлительный Виллартон в течение предшествовавших двух лет политического согласия и тесной личной дружбы отчасти и сердцем по-товарищески привязался к Богатыреву, и тем больнее были ему обиды, почти ежедневно наносимые ему нашим упрямым и гордым москвичом.
Я говорю – Богатырев перешел далеко и за черту приличий, и за черту обязательной борьбы. Дальнейшая Жестокость к расстроенному Виллартону была не только не нужна для нашего русского дела, но могла стать и вредною. Мягкие и уступчивые люди становятся иногда ужасны в мести своей, когда видят, что противник рассчитывает на эту слабость. Я хотел поберечь для себя или, лучше сказать, для своей службы Виллартона; я находил, что, сохраняя с ним лично хорошие отношения, я могу еще легче действовать против него тайно, при тех хороших помощниках, которых мы имели в городе в среде христианской.
Все это так, но как бы он не дознался при своих слишком частых посещениях, что Велико не просто униат, возвратившийся к Православию (это законно), но что он беглец из полка Садык-паши? Опасения мои почти оправдались.
Особенно один визит английского консула заставил меня задуматься.
Богатырев незадолго пред этим переполнил чашу его терпения. Случилось это вот как.
От радости, что сам Антониади пригласил меня читать жене своей Жуковского, я медлил. Я все боялся испортить дела свои. Я думал: «и так хорошо! на что торопиться?»
После праздника в Порте, где она повторила, что ждет нас, я собрался. Надо было звать с собой Богатырева. К тому же та часть Жуковского, в которой была «Эолова Арфа», была у него. Я зашел к нему и сказал ему:
– Пойдемте сегодня вечером вместе к Антониади. Он пригласил меня читать жене громко Жуковского!
– Какой дурак, – отвечал Богатырев весело. – Когда я женюсь, я вам не позволю читать моей жене Жуковского. Нет, батюшка, отойди от зла и сотвори благо!..
– Перестаньте, – возразил я, – во-первых, с какой стати вам сравнивать себя с этим скучным Антониади. В вас жена будет, наверное, так влюблена, что тут не только нравственный Жуковский, но и другие поэты ничего не помогут.
Богатырев, несмотря на всю свою выдержку, не мог скрыть своего удовольствия, услыхав такую лестную правду (это и оказалось правдой со временем: жена без ума любила его). Он покраснел и даже сконфузился, опустил глаза и стал рассматривать свои руки. Потом, совладев со своим минутным смущением, он ужасно лукаво улыбнулся и сказал:
– Voyons – tr?ve de flatteries! Vous voulez me faire servir de paravent… Eh bien! soit… Только на что это вы старину такую ей тащите? Начал было я сам «Ундину». Знаете, скучновато… Вы бы лучше ей какого-нибудь Павла Петухова снесли. И муж бы послушал Поль-де-Кока… А то что ж он поймет! Он заснет, обидится и не будет вас больше пускать к себе… Я в ваших интересах говорю.
– Он жил в Одессе и понимает немного по-русски.
– Да что ж, что понимает! – возразил Богатырев. – Что-нибудь о «пшенице», «тащи мешки» какие-нибудь… А вы «Ундину» ему…
Однако я стоял за Жуковского, и Богатырев, который все это говорил нарочно, потому что был в этот день в духе, кликнул своего Ивана, настоящего орловского камердинера, и сказал ему, вставая:
– Принеси мне перчатки и шапку и вели кавассу сейчас зажечь фонарь… мы пойдем…
Итак, мы собрались идти. Я заметил, что Богатырев искал что-то на столе своем, нашел и захватил с собою это что-то, это нечто, которое он хотел от меня скрыть… Повернувшись ко мне спиной, он поспешил положить в боковой карман какую-то небольшую вещь и потом, обращаясь ко мне с самым равнодушным видом, воскликнул: «Пойдем делить досуг печальной нашей крали…»
Я не отвечал на эту новую насмешку над Машей, и мы, взяв Жуковского, кавасса и фонарь, пошли в Кастро, не спеша, по темным улицам, на которых давно уже ходили, постукивая толстыми палками по мостовой, безмолвные и закутанные пазванты[21 - Пазвант, или пазван – ночной сторож.].
Было не очень холодно, шел мелкий снежок; под ногами он таял и обращался в густую грязь. Мы долго шли молча, выбирая где посуше и переступая с камня на камень, в местах почти безлюдных, все между лавок, запертых уже с раннего вечера.
Из-под ног наших беспрестанно вставали худые, никому не принадлежащие уличные собаки, кротко уступая нам дорогу. В одном месте мы чуть-чуть было не наступили на целое гнездо щенят, для которых чья-то сострадательная рука постелила соломки около столба.
Я любил все это: и эту грязь, и безмолвие, и отсутствие газа, карет, и бедных собак, этих нищих духом «о Магомете»… и запертые лавки, и внезапный звонкий стук сторожевой дубины о камни мостовой… Но Богатырев сердился, переступая с камня на камень через лужи и снег.
– Не дождусь, когда я уеду из этой трущобы! – говорил он угрюмо.
Я не отвечал, но думал: «И я не дождусь, чтобы ты уехал! Тогда я буду всему здесь сам хозяин!..»
Наконец мы подошли к их двери, и кавасс наш застучал кольцом…
Снизу из сеней мы услыхали громкий и, казалось, нам обоим незнакомый голос…
– Кто это у вас наверху? – спросил с недовольным видом Богатырев у служанки.
– Это г. Михалаки, ваш драгоман, привел какого-то старика, который все кричит и кричит, – отвечала Елена, – кричит и потом, как кошка, делает вот так: пффф!..
Елена, очень забавно отскочив от нас, представила лицом и руками испуганную и рассерженную кошку… Я тотчас же догадался и сказал:
– А, это наш русский подданный, философ Маджараки… это он…
Я любил этого оригинального старика и обрадовался этой неожиданной встрече; я сообразил кстати, что они с Михалаки могут занять Антониади и Богатырева и этим облегчат мне возможность отдельной беседы Машей. А читать можно и в другой раз.
Маджараки, уроженец и житель уездного городка Кырк-Килисси и русский подданный, имел тяжебное дело в Адрианополе с одним армянином, турецким подданным. Антониади, новый член торгового суда, должен был на днях принять участие в обсуждении этого дела, и вечно деятельный Михалаки Канкелларио, безо всякого даже побуждения со стороны консула, взял на себя труд привести Маджараки к Антониади в дом, чтобы подсудимый мог как можно лучше изложить свою тяжбу еще неопытному в местных делах, но испытанному жизнью и коммерческою борьбой судье. К тому времени, как нам прийти, разговор о тяжбе уже кончился. Михалаки играл в шахматы с Антониади, Маша сидела на диване с работой; около нее была m-me Игнатович, а низенький и толстый Маджараки стоял посреди залы, опершись правою рукой на спинку стула и, потрясая от времени до времени левою, говорил дамам так, с исступлением страсти и фанатизма:
– Вы, вы, жительницы больших городов… вы можете позволять себе европейскую роскошь… Но мои дочери? мои дочери должны носить толстые красные болгарские фартуки! Они метут, работают, они едят руками… Да, моя покойная мать тоже ела руками, и сок!., сок от кушанья тек по груди ее… сок этот тек (повторял он с любовью и восторгом, качая умиленно седою головой)… да, сок этот тек, но мать моя была здорова, красива и сильна.
Мы прервали его речь…
Он умолк мгновенно, увидав консула. Все поспешно встали, хозяин дома встретил нас у дверей залы, Маша тоже встала с дивана и сделала несколько шагов нам навстречу. Маджараки отошел в сторону, вытянулся и притворился робким и скромным. (Я говорю притворился, потому что он никого и ничего не боялся, своею смелостью с турками довел даже себя до цепей и суда, после чего и Добыл себе в Одессе русский паспорт.)
Богатырев, поздоровавшись с хозяевами дома, едва повел головой в сторону Маджараки и не удостоил ответить даже приветливым взглядом на его почтительный поклон. Он находил старика несносным, да и вообще на всех здешних людей смотрел только с точки зрения политических интересов России и выгод собственной службы. Сами по себе они все для него не существовали, и он не считал их достойными ни малейшего внимания. Мне же, напротив того, случалось с этим Маджараки проводить целые вечера и до усталости слушать его рассуждения о философии, богословии и грамматике. Я находил его замечательным человеком и часто изумлялся его метафизическим способностям, развившимся так сильно и независимо в таком удалении от главных центров научной и умственной жизни.
Я предоставил Богатыреву заняться с Машей, надеясь вознаградить себя позднее, и, взяв дружески за руку бедного и никем не понятого мыслителя, усадил его около себя и спросил, чем он теперь занимается.