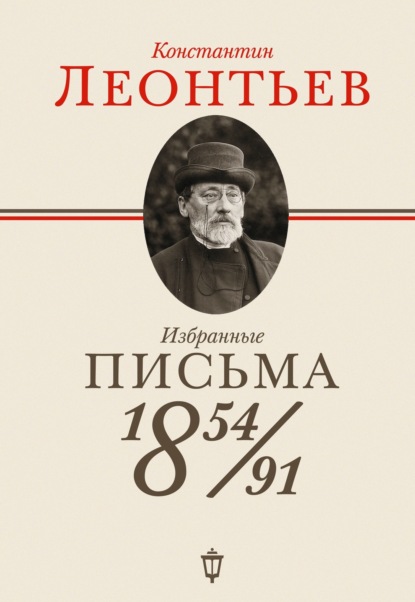По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Избранные письма. 1854–1891
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1 октября 1875 г., Мещовский монастырь св. Георгия
Добрый, добрый, добрый мой Константин Аркадьевич! Я в этом монастыре на неделю, а может быть, и больше, если деньги позволят. Приехал помолиться, попоститься, познакомиться с монахами и погрустить как-нибудь на новый манер (а то в Кудинове и все приятное, и все неприятное слишком уж правильно и однообразно).
Это всего 35 верст от Кудинова. Монастырь бедный, скромный, малолюдный, но игумен в нем прекрасный, ученик знаменитой Козельско-Оптинской пустыни, в полверсте от Мещовска; гостиница маленькая, новенькая, в русском простом вкусе – очаровательная! И вот, под влиянием уединения и какого-то сердечного тихого умиления, я сажусь вечером писать Вам это письмо. <…>
Меня сокрушает одно теперь (да и то днями), это чрезмерный покой и мирное однообразие нашей кудиновской жизни. Есть дни и часы, в которые я задыхаюсь, в другие – ничего <…>. Материальное положение мое в Кудинове более чем сносно. Жизнь наша проста и обходится очень недорого (рубл<ей> пятьдесят в месяц, а иногда и менее). Мы с Марьей Владимировной
сумели отстоять от братьев
это убежище. Сад наш велик, тенист, живописен, хотя фруктов уже в нем нет, как было лет 10–20 тому назад; рощи невелики, но прекрасны (а через десять лет они будут тысяч пять-семь стоить на сруб).
У нас, как в скиту, три маленьких флигеля особо, один – мой, другой – для девиц, а третий – столовая. Все они убраны так, что, верно, понравились бы Вам. Есть несколько коров, собака даже и у нее щенок, есть и кошки, но лошадей нет: фаэтончик очень покойный, много хороших книг, еще от матери и брата оставшихся. Есть по соседству церковь помолиться. Мы постимся по уставу, часто ездим к обедне, бывают у нас и дома заказные всенощные. У нас, при всей скудости наших средств, есть еще, слава богу, возможность содержать трех-четырех старых дворовых на пенсии кой-какой, завещанной матерью, и иногда купить лекарство бедному человеку. Крестьяне соседние вспомнили меня и ходят ко мне лечиться. Другой бы помирился на этом навсегда, особенно когда есть близко монастыри… а я не могу! Не в том дело, что положение материальное несносно, а в том, что несносны люди в наших столицах, что они недостаточно честны в литературе. Если бы люди были честнее, мне бы не нужно было самому ездить в столицы… <…>
Но спросите у меня исповеди сердца моего – и я скажу Вам, что все тоскую, все тоскую везде. Меня по-прежнему, как на Босфоре
, оживляют только две вещи: монахи и церковь, когда служба не через силу мою, и вот еще гостиная очень хорошая, как в посольстве была, как у Неклюдовых
, у Трубецкой
, у Гагарина
(в Калуге). Да простит мне Бог! В таких местах во мне воскресает все. А в Кудинове нет ни церкви, ни такой гостиной, нет ни о. Иеронима или хоть бы халкинских или московских монахов, нет ни Софьи Петровны
, ни madame Ону, ни кн. Трубецкой, ни тех иностранцев, которые на игнатьевских раутах находили, что я лицом похож на государственного преступника, долго бывшего в Сибири… Как было весело тогда! На Халках – тишина, греки, монахи в сосновом лесу, свобода писать, сколько хочу. Прелестный вид, надежда на согласие какое-нибудь с этой бедной моей Лизой… А в посольстве – поздняя обедня, русская, хорошая, барская такая (прости мне, Господи!)… Вы, Ваши веселые товарищи, наши умные, красивые, нарядные дамы… Добрая княгиня… Ваше кресло у широкого окна, кофе мой, волшебный вид на Босфор и на синие острова, где был мой дом, где я выздоровел, где я мечтал, трудился и молился так искренно и усердно и не один, а с этой женщиной, которая к душе моей, как ребенок к чреву матери, приросла какой-то кровной пуповиной… Она сама оторвалась теперь на свободу от моего любимого деспотизма, она дала мне покой, и сама (пишет оттуда) весела и покойна пока. Я рад, что ее нет и что мне меньше забот и меньше раздражения, ибо она здесь все лето была вне себя, то от беспутной, преувеличенной веселости, то от тоски по крымской родине, то внезапной ненависти ко всем моим родным, которых она прежде любила больше своих (она, Вы знаете, почти всеми близкими моими принята была как нельзя радушнее, и слуги даже у нас любят ее). Она говорила мне этим летом со слезами: «Ты мне стал чужой, я хочу в Крым, к своим, мне наскучили ваши стеснения, мне скучно с вами здесь; с тобой одним мне быть теперь также неприятно, ты хочешь одного, а я хочу другого; мне твои монашеские вкусы противны! Что мне делать, прости мне…» и т. д.
И я, конечно, простил ей, я рад, что ей весело там, я молю ежедневно только Бога, чтобы она перед Ним каялась, а передо мной никогда! То есть чтобы она никогда ко мне более не возвращалась, и я ей это написал и прекратил переписку, посылаю только деньги, что могу, и то с великою нуждою.
Вы понимаете все или не совсем? Вообразите себя любящим отцом, и Вы меня поймете. Ваш сын может сокрушать и оскорблять Вас ежедневно, Вы утомитесь наконец, Вы рады, что его около Вас нет, но ужасное воспоминание об этом оторванном от сердца сыне, об этой отчасти и по Вашим грехам разрушенной любви не пройдет никогда. И вот тут-то дорого было бы общество умное, живое, блестящее, где бы забывались такие раны, общество, которое бы больше светило, чем грело. Такое общество, такая жизнь была на Босфоре. В Кудинове же – иной мир, здесь иное общество, оно исполнено любви, самоотвержения, дружбы ко мне, но оно не светит и не возбуждает! Мое общество Вы знаете какое: Марья Владимировна и та другая девушка – соседка, дочь одного помещика, которая ушла от матери прошлую зиму и поселилась у нас. Ей 24 года, она очень мила: оригинальна, хитра, необыкновенно тверда и решительна, поет прекрасно русские песни, иностранные языки не знает, прекрасная хозяйка и меня без ума любит. Она трудится, шьет, гладит сама. Она выучивает наизусть молитвы и целые псалмы, только чтобы мне угодить и понравиться. Она с утра и до вечера только и думает, чтобы ничто материальное меня не потревожило и не помешало бы моим занятиям. Теперь у нас горничная Лиза (Вы ведь ее помните?) вернулась к нам, но ее целый год не было, она поссорилась с Машей, а теперь покаялась и вернулась. Теперь она стучится в 8 часов в дверь моего флигеля, она мне варит рано кофей. А пока ее не было, вообразите, эта молодая девушка все лето вставала рано, чтобы варить мне кофей, стучалась в дверь рано и потом просиживала, пригорюнившись, на крыльце целый час в ожидании, когда я встану и оденусь и отдерну занавеску на окне и пущу ее с кофеем. И это она считала счастьем! И теперь бы считала, если бы я не запретил ей так трудиться, когда есть горничная. Из-за чего же все это? Из-за улыбки, из-за отеческой ласки изредка, из-за шуток и дружбы, ибо больше я и не могу ей дать и не хочу по теперешним правилам моим, но лицом нравится она мне очень, в нее влюблены другие люди, и если бы не Бог и твердая решимость сначала не дать ни себе, ни ей воли, конечно, соблазн был бы велик. Я и теперь, помня уроки старцев, которые говорят, что даже они не застрахованы вполне от всякого падения, ежеминутно слежу за собой. Конечно, теперь это легче, чем в былом времени! Она находит, что лучше так жить и смотреть на меня, чем быть замужем.
Вы спросите, что же Маша при этом. Марья Владимировна стала, слава богу, гораздо больше мать Манефа, чем я брат Константин. Она если и ревнует иногда, то скорее меня к ней, чем ее ко мне! То есть она ее любит больше, чем меня теперь, и иногда завидует и плачет о том, что та больше думает обо мне, чем об ней. Но без каких-нибудь вспышек Марья Владимировна долго прожить не может. Потом она кается, идет пешком на богомолье, просит меня наказать ее как-нибудь и успокаивается на несколько времени, когда я ей докажу, что все она виновата.
Обе они, и Маша, и эта девушка (ее зовут Людмила
), только и думают, как бы мне было лучше, а для самих себя желают только одного, чтобы я был доволен ими. Маша занимается арендами, порубками, спорит с мужиками, поит их водкой, ведет весь расход, переписывает мне, читает утром и вечером громко общие молитвы, обязана читать «Московские ведомости» и указывать мне, что есть особенного (как Феоктистов у Государя
одно время).
Людмила шьет, обед заказывает, всей провизией занимается; ей тоже много дела сверх того, когда я скажу: «Людмила, пой песню!» – она поет. «Людмила, поедем в Герцеговину
» – она говорит: «Поедем» и т. д.
Понимаете? А я все-таки задыхаюсь и все рвусь мечтою то к Вам, на Босфор, то в Герцеговину или Белград, то в Москву и в Петербург, и мне иногда очень тяжело в этой тишине и в этом мире.
Оттого я и сюда помолиться приехал на неделю, чтобы заглушить эту тоску по жизни и блестящей борьбе. Именно заглушить. <…>
Впервые опубликовано в журнале «Русское обозрение». 1894, сентябрь. С. 367–369.
Мещовский монастырь св. Георгия – монастырь в г. Мещовске Калужской губ.
Марья Владимировна — племянница К. Н. Леонтьева М. В. Леонтьева.
…отстоять от братьев… – Речь идет о разделе наследства после смерти Ф. П. Леонтьевой.
Босфор — пролив, соединяющий Черное море с Мраморным, на берегу которого стоит Константинополь.
Василий Сергеевич Неклюдов (1818–1880) – камергер, действительный тайный советник, сотрудник «Русского вестника». Написал сочувственный отзыв о повестях Леонтьева (Московские ведомости. 1876, 24 апр., № 100).
Надежда Борисовна Трубецкая — княгиня, урожд. кнж. Четвертинская (1812–1909) – патронесса многих благотворительных обществ и учреждений. Пользовалась большим влиянием в высшем московском обществе.
Гагарин — кн. Константин Дмитриевич Гагарин.
…Софьи Петровны… – С. П. Хитрово, урожд. Бахметева (1848–1910). Племянница С. А. Толстой, жены гр. А. К. Толстого. Жена М. А. Хитрово. Ей посвящены любовные стихотворения Владимира Соловьева. К. Н. Леонтьев писал, что в ней «соединены изумительно лейб-гусарский юнкер и английская леди, мать и супруга, японское полудетское личико и царственная поступь, злость и самая милая грация, восхитительное косноязычие и ясный, твердый ум». («Литературное наследство». Т. 22–24. М., 1935. С. 435).
…с этой женщиной... – Имеется в виду жена К. Н. Леонтьева Е. П. Леонтьева.
Людмила — Людмила Осиповна Раевская.
…у Государя… – т. е. у императора Александра II.
Герцеговина — бывшая сербская провинция Турецкой империи на побережье Адриатического моря.
55. H. H. Страхову
Октябрь 1875 г., Кудиново
<…>…Когда я жил вдали, в Турции, – я жил прекрасно, приятно, разнообразно, не по-европейски, наконец – эта жизнь была полезна мне, и удаление это было приятно. Но сколько ни имей жизни в уме, сколько ни гори огня священного в сердце – надо отзывы… хотя бы и не всегда справедливые… нужна критика. Критика обусловливает часто будущую деятельность автора. Назло ей или в угоду, но он берет ее в расчет неизбежно. Вот что помешало мне сделать больше, порицание мне было полезнее молчания друзей, ничем, кроме великоруссизма в другом его смысле, не объяснимого. Вот что, милый и добрый мой друг! Молчание убивало меня, и если все-таки не убило, так уж это [нрзб.] честь или Богу слава!
Вы говорите об отречении, о суете… Вы думаете, что одно самолюбие заставляло меня желать отзывов? Вы ошибаетесь. Я честолюбив, быть может, даже и тщеславен, но не в искусстве – в нем я чист. А то, что Вы говорите о знатоках и о публике, душа моя, верьте, это не так! Публика блудница гнусная и легкомысленная, развязная дура. Знатоки должны ее, негодную, учить тому, что они сами понимают, а не ждать от нее чего-то путного. Белинский учил ее, Лессинг
учил ее, Ап. Григорьев вечно ей противоречил… А иначе, я боюсь, лучшие и даровитые из вас и самые независимые слишком поддались влиянию общества, которое всегда не что иное, как собирательная бездарность (см. Дж. Ст. Милля). В критике не похвал только я искал бы, а подстрекательства и умного суда, под влиянием которого я мог бы меняться плодотворно… <…>
Публикуется по автографу (РНБ). Датировано по тексту.
Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781) – немецкий писатель, публицист, философ, разрабатывавший проблемы эстетики. Гуманист-просветитель.
56. H. Я. Соловьеву
19 апреля 1876 г., Москва
Добрейший мой Николай Яковлевич, предоставляю Вам полное право осуждать меня в сердце Вашем за то, что я не посетил Вас в больнице. Вы будете совершенно правы, если Вы назовете это эгоизмом старческим или малодушием, но я решительно в больницу не пойду и не поеду.
Вам, слава богу, лучше; у Островского
, Вы видите, я сделал все, что мог. Он, по-видимому, решился и так сделать для Вас все, что может, чего же большего пока на первый раз Вам желать? Я за Вас очень рад. Главное, существенное все сделано. Он возьмет Вас к себе в деревню
; местность за Волгой прекрасная, полудикая, протекция авторитета, обеспеченность на все лето, свобода и сверх того обещание Островского не оставить Вас без места осенью. На что Вам я – в тифозном воздухе? Вам эта жертва моя немного прибавит. Это роскошь нравственная побеседовать по душе, и этого удовольствия я Вам не доставлю. Простите мне мою прямоту и мой эгоизм. Я очень рад за Вас сближению Вашему с Островским; рад тому, что он поможет Вам усовершенствовать форму Ваших произведений, улучшить сценические приемы Ваши, отучит употреблять такие семинарские выражения, как дуэтировать, планировать (их никогда не употребляют светские люди) и т. п. Но, сознаюсь откровенно и между нами, я несколько боюсь за направление идей Ваших. Все мы люди, все мы человеки! В Островском в самом есть нечто, что слишком сродно Вашему прежнему направлению, Вашей демократической гордости, Вашей теории: право на жизнь и т. п. Он все-таки, несмотря на весь поэтический дар свой, несколько нигилист. Он ненавидит монашество, не понимает вовсе прелести и поэзии православия, не любит, видимо, с другой стороны, изящного барства; одним словом, сам он лично и как художник очень известен, но по строю мыслей, по философским, так сказать, и политическим сочувствиям он принадлежит, видимо, к тому выдохшемуся направлению, на которое Вы сами нападали у меня в номере так справедливо и зло. Вот на что я, любя Ваш талант и мечтая о Вашей будущности, считаю долгом Вам указать. А Вы как знаете, только оставьте раз навсегда мысль юношескую, что можете прожить без влияний. Пушкин подчинялся им невольно. А если уж это необходимо, то Вы и идеально, и практически больше выиграете, если подчинитесь влиянию Островского со стороны формы, а меня будете помнить хоть немного со стороны духа и направления. Философски и политически он не развит. <…>
Прочтите, пожалуйста, Белинского о Пушкине и Лермонтове; вот человек, который сам был скромным тружеником и притесненным бедняком, но умел всей душой ценить лейб-гусарство Лермонтова и светскость Пушкина. Вот объективность! Вот сила ума! Вот беспристрастие! Вот и H. Н. Страхов такой же! За что я его уважаю, хотя H. Н. Страхов против меня лично…
Добрый, добрый, добрый мой Константин Аркадьевич! Я в этом монастыре на неделю, а может быть, и больше, если деньги позволят. Приехал помолиться, попоститься, познакомиться с монахами и погрустить как-нибудь на новый манер (а то в Кудинове и все приятное, и все неприятное слишком уж правильно и однообразно).
Это всего 35 верст от Кудинова. Монастырь бедный, скромный, малолюдный, но игумен в нем прекрасный, ученик знаменитой Козельско-Оптинской пустыни, в полверсте от Мещовска; гостиница маленькая, новенькая, в русском простом вкусе – очаровательная! И вот, под влиянием уединения и какого-то сердечного тихого умиления, я сажусь вечером писать Вам это письмо. <…>
Меня сокрушает одно теперь (да и то днями), это чрезмерный покой и мирное однообразие нашей кудиновской жизни. Есть дни и часы, в которые я задыхаюсь, в другие – ничего <…>. Материальное положение мое в Кудинове более чем сносно. Жизнь наша проста и обходится очень недорого (рубл<ей> пятьдесят в месяц, а иногда и менее). Мы с Марьей Владимировной
сумели отстоять от братьев
это убежище. Сад наш велик, тенист, живописен, хотя фруктов уже в нем нет, как было лет 10–20 тому назад; рощи невелики, но прекрасны (а через десять лет они будут тысяч пять-семь стоить на сруб).
У нас, как в скиту, три маленьких флигеля особо, один – мой, другой – для девиц, а третий – столовая. Все они убраны так, что, верно, понравились бы Вам. Есть несколько коров, собака даже и у нее щенок, есть и кошки, но лошадей нет: фаэтончик очень покойный, много хороших книг, еще от матери и брата оставшихся. Есть по соседству церковь помолиться. Мы постимся по уставу, часто ездим к обедне, бывают у нас и дома заказные всенощные. У нас, при всей скудости наших средств, есть еще, слава богу, возможность содержать трех-четырех старых дворовых на пенсии кой-какой, завещанной матерью, и иногда купить лекарство бедному человеку. Крестьяне соседние вспомнили меня и ходят ко мне лечиться. Другой бы помирился на этом навсегда, особенно когда есть близко монастыри… а я не могу! Не в том дело, что положение материальное несносно, а в том, что несносны люди в наших столицах, что они недостаточно честны в литературе. Если бы люди были честнее, мне бы не нужно было самому ездить в столицы… <…>
Но спросите у меня исповеди сердца моего – и я скажу Вам, что все тоскую, все тоскую везде. Меня по-прежнему, как на Босфоре
, оживляют только две вещи: монахи и церковь, когда служба не через силу мою, и вот еще гостиная очень хорошая, как в посольстве была, как у Неклюдовых
, у Трубецкой
, у Гагарина
(в Калуге). Да простит мне Бог! В таких местах во мне воскресает все. А в Кудинове нет ни церкви, ни такой гостиной, нет ни о. Иеронима или хоть бы халкинских или московских монахов, нет ни Софьи Петровны
, ни madame Ону, ни кн. Трубецкой, ни тех иностранцев, которые на игнатьевских раутах находили, что я лицом похож на государственного преступника, долго бывшего в Сибири… Как было весело тогда! На Халках – тишина, греки, монахи в сосновом лесу, свобода писать, сколько хочу. Прелестный вид, надежда на согласие какое-нибудь с этой бедной моей Лизой… А в посольстве – поздняя обедня, русская, хорошая, барская такая (прости мне, Господи!)… Вы, Ваши веселые товарищи, наши умные, красивые, нарядные дамы… Добрая княгиня… Ваше кресло у широкого окна, кофе мой, волшебный вид на Босфор и на синие острова, где был мой дом, где я выздоровел, где я мечтал, трудился и молился так искренно и усердно и не один, а с этой женщиной, которая к душе моей, как ребенок к чреву матери, приросла какой-то кровной пуповиной… Она сама оторвалась теперь на свободу от моего любимого деспотизма, она дала мне покой, и сама (пишет оттуда) весела и покойна пока. Я рад, что ее нет и что мне меньше забот и меньше раздражения, ибо она здесь все лето была вне себя, то от беспутной, преувеличенной веселости, то от тоски по крымской родине, то внезапной ненависти ко всем моим родным, которых она прежде любила больше своих (она, Вы знаете, почти всеми близкими моими принята была как нельзя радушнее, и слуги даже у нас любят ее). Она говорила мне этим летом со слезами: «Ты мне стал чужой, я хочу в Крым, к своим, мне наскучили ваши стеснения, мне скучно с вами здесь; с тобой одним мне быть теперь также неприятно, ты хочешь одного, а я хочу другого; мне твои монашеские вкусы противны! Что мне делать, прости мне…» и т. д.
И я, конечно, простил ей, я рад, что ей весело там, я молю ежедневно только Бога, чтобы она перед Ним каялась, а передо мной никогда! То есть чтобы она никогда ко мне более не возвращалась, и я ей это написал и прекратил переписку, посылаю только деньги, что могу, и то с великою нуждою.
Вы понимаете все или не совсем? Вообразите себя любящим отцом, и Вы меня поймете. Ваш сын может сокрушать и оскорблять Вас ежедневно, Вы утомитесь наконец, Вы рады, что его около Вас нет, но ужасное воспоминание об этом оторванном от сердца сыне, об этой отчасти и по Вашим грехам разрушенной любви не пройдет никогда. И вот тут-то дорого было бы общество умное, живое, блестящее, где бы забывались такие раны, общество, которое бы больше светило, чем грело. Такое общество, такая жизнь была на Босфоре. В Кудинове же – иной мир, здесь иное общество, оно исполнено любви, самоотвержения, дружбы ко мне, но оно не светит и не возбуждает! Мое общество Вы знаете какое: Марья Владимировна и та другая девушка – соседка, дочь одного помещика, которая ушла от матери прошлую зиму и поселилась у нас. Ей 24 года, она очень мила: оригинальна, хитра, необыкновенно тверда и решительна, поет прекрасно русские песни, иностранные языки не знает, прекрасная хозяйка и меня без ума любит. Она трудится, шьет, гладит сама. Она выучивает наизусть молитвы и целые псалмы, только чтобы мне угодить и понравиться. Она с утра и до вечера только и думает, чтобы ничто материальное меня не потревожило и не помешало бы моим занятиям. Теперь у нас горничная Лиза (Вы ведь ее помните?) вернулась к нам, но ее целый год не было, она поссорилась с Машей, а теперь покаялась и вернулась. Теперь она стучится в 8 часов в дверь моего флигеля, она мне варит рано кофей. А пока ее не было, вообразите, эта молодая девушка все лето вставала рано, чтобы варить мне кофей, стучалась в дверь рано и потом просиживала, пригорюнившись, на крыльце целый час в ожидании, когда я встану и оденусь и отдерну занавеску на окне и пущу ее с кофеем. И это она считала счастьем! И теперь бы считала, если бы я не запретил ей так трудиться, когда есть горничная. Из-за чего же все это? Из-за улыбки, из-за отеческой ласки изредка, из-за шуток и дружбы, ибо больше я и не могу ей дать и не хочу по теперешним правилам моим, но лицом нравится она мне очень, в нее влюблены другие люди, и если бы не Бог и твердая решимость сначала не дать ни себе, ни ей воли, конечно, соблазн был бы велик. Я и теперь, помня уроки старцев, которые говорят, что даже они не застрахованы вполне от всякого падения, ежеминутно слежу за собой. Конечно, теперь это легче, чем в былом времени! Она находит, что лучше так жить и смотреть на меня, чем быть замужем.
Вы спросите, что же Маша при этом. Марья Владимировна стала, слава богу, гораздо больше мать Манефа, чем я брат Константин. Она если и ревнует иногда, то скорее меня к ней, чем ее ко мне! То есть она ее любит больше, чем меня теперь, и иногда завидует и плачет о том, что та больше думает обо мне, чем об ней. Но без каких-нибудь вспышек Марья Владимировна долго прожить не может. Потом она кается, идет пешком на богомолье, просит меня наказать ее как-нибудь и успокаивается на несколько времени, когда я ей докажу, что все она виновата.
Обе они, и Маша, и эта девушка (ее зовут Людмила
), только и думают, как бы мне было лучше, а для самих себя желают только одного, чтобы я был доволен ими. Маша занимается арендами, порубками, спорит с мужиками, поит их водкой, ведет весь расход, переписывает мне, читает утром и вечером громко общие молитвы, обязана читать «Московские ведомости» и указывать мне, что есть особенного (как Феоктистов у Государя
одно время).
Людмила шьет, обед заказывает, всей провизией занимается; ей тоже много дела сверх того, когда я скажу: «Людмила, пой песню!» – она поет. «Людмила, поедем в Герцеговину
» – она говорит: «Поедем» и т. д.
Понимаете? А я все-таки задыхаюсь и все рвусь мечтою то к Вам, на Босфор, то в Герцеговину или Белград, то в Москву и в Петербург, и мне иногда очень тяжело в этой тишине и в этом мире.
Оттого я и сюда помолиться приехал на неделю, чтобы заглушить эту тоску по жизни и блестящей борьбе. Именно заглушить. <…>
Впервые опубликовано в журнале «Русское обозрение». 1894, сентябрь. С. 367–369.
Мещовский монастырь св. Георгия – монастырь в г. Мещовске Калужской губ.
Марья Владимировна — племянница К. Н. Леонтьева М. В. Леонтьева.
…отстоять от братьев… – Речь идет о разделе наследства после смерти Ф. П. Леонтьевой.
Босфор — пролив, соединяющий Черное море с Мраморным, на берегу которого стоит Константинополь.
Василий Сергеевич Неклюдов (1818–1880) – камергер, действительный тайный советник, сотрудник «Русского вестника». Написал сочувственный отзыв о повестях Леонтьева (Московские ведомости. 1876, 24 апр., № 100).
Надежда Борисовна Трубецкая — княгиня, урожд. кнж. Четвертинская (1812–1909) – патронесса многих благотворительных обществ и учреждений. Пользовалась большим влиянием в высшем московском обществе.
Гагарин — кн. Константин Дмитриевич Гагарин.
…Софьи Петровны… – С. П. Хитрово, урожд. Бахметева (1848–1910). Племянница С. А. Толстой, жены гр. А. К. Толстого. Жена М. А. Хитрово. Ей посвящены любовные стихотворения Владимира Соловьева. К. Н. Леонтьев писал, что в ней «соединены изумительно лейб-гусарский юнкер и английская леди, мать и супруга, японское полудетское личико и царственная поступь, злость и самая милая грация, восхитительное косноязычие и ясный, твердый ум». («Литературное наследство». Т. 22–24. М., 1935. С. 435).
…с этой женщиной... – Имеется в виду жена К. Н. Леонтьева Е. П. Леонтьева.
Людмила — Людмила Осиповна Раевская.
…у Государя… – т. е. у императора Александра II.
Герцеговина — бывшая сербская провинция Турецкой империи на побережье Адриатического моря.
55. H. H. Страхову
Октябрь 1875 г., Кудиново
<…>…Когда я жил вдали, в Турции, – я жил прекрасно, приятно, разнообразно, не по-европейски, наконец – эта жизнь была полезна мне, и удаление это было приятно. Но сколько ни имей жизни в уме, сколько ни гори огня священного в сердце – надо отзывы… хотя бы и не всегда справедливые… нужна критика. Критика обусловливает часто будущую деятельность автора. Назло ей или в угоду, но он берет ее в расчет неизбежно. Вот что помешало мне сделать больше, порицание мне было полезнее молчания друзей, ничем, кроме великоруссизма в другом его смысле, не объяснимого. Вот что, милый и добрый мой друг! Молчание убивало меня, и если все-таки не убило, так уж это [нрзб.] честь или Богу слава!
Вы говорите об отречении, о суете… Вы думаете, что одно самолюбие заставляло меня желать отзывов? Вы ошибаетесь. Я честолюбив, быть может, даже и тщеславен, но не в искусстве – в нем я чист. А то, что Вы говорите о знатоках и о публике, душа моя, верьте, это не так! Публика блудница гнусная и легкомысленная, развязная дура. Знатоки должны ее, негодную, учить тому, что они сами понимают, а не ждать от нее чего-то путного. Белинский учил ее, Лессинг
учил ее, Ап. Григорьев вечно ей противоречил… А иначе, я боюсь, лучшие и даровитые из вас и самые независимые слишком поддались влиянию общества, которое всегда не что иное, как собирательная бездарность (см. Дж. Ст. Милля). В критике не похвал только я искал бы, а подстрекательства и умного суда, под влиянием которого я мог бы меняться плодотворно… <…>
Публикуется по автографу (РНБ). Датировано по тексту.
Готхольд Эфраим Лессинг (1729–1781) – немецкий писатель, публицист, философ, разрабатывавший проблемы эстетики. Гуманист-просветитель.
56. H. Я. Соловьеву
19 апреля 1876 г., Москва
Добрейший мой Николай Яковлевич, предоставляю Вам полное право осуждать меня в сердце Вашем за то, что я не посетил Вас в больнице. Вы будете совершенно правы, если Вы назовете это эгоизмом старческим или малодушием, но я решительно в больницу не пойду и не поеду.
Вам, слава богу, лучше; у Островского
, Вы видите, я сделал все, что мог. Он, по-видимому, решился и так сделать для Вас все, что может, чего же большего пока на первый раз Вам желать? Я за Вас очень рад. Главное, существенное все сделано. Он возьмет Вас к себе в деревню
; местность за Волгой прекрасная, полудикая, протекция авторитета, обеспеченность на все лето, свобода и сверх того обещание Островского не оставить Вас без места осенью. На что Вам я – в тифозном воздухе? Вам эта жертва моя немного прибавит. Это роскошь нравственная побеседовать по душе, и этого удовольствия я Вам не доставлю. Простите мне мою прямоту и мой эгоизм. Я очень рад за Вас сближению Вашему с Островским; рад тому, что он поможет Вам усовершенствовать форму Ваших произведений, улучшить сценические приемы Ваши, отучит употреблять такие семинарские выражения, как дуэтировать, планировать (их никогда не употребляют светские люди) и т. п. Но, сознаюсь откровенно и между нами, я несколько боюсь за направление идей Ваших. Все мы люди, все мы человеки! В Островском в самом есть нечто, что слишком сродно Вашему прежнему направлению, Вашей демократической гордости, Вашей теории: право на жизнь и т. п. Он все-таки, несмотря на весь поэтический дар свой, несколько нигилист. Он ненавидит монашество, не понимает вовсе прелести и поэзии православия, не любит, видимо, с другой стороны, изящного барства; одним словом, сам он лично и как художник очень известен, но по строю мыслей, по философским, так сказать, и политическим сочувствиям он принадлежит, видимо, к тому выдохшемуся направлению, на которое Вы сами нападали у меня в номере так справедливо и зло. Вот на что я, любя Ваш талант и мечтая о Вашей будущности, считаю долгом Вам указать. А Вы как знаете, только оставьте раз навсегда мысль юношескую, что можете прожить без влияний. Пушкин подчинялся им невольно. А если уж это необходимо, то Вы и идеально, и практически больше выиграете, если подчинитесь влиянию Островского со стороны формы, а меня будете помнить хоть немного со стороны духа и направления. Философски и политически он не развит. <…>
Прочтите, пожалуйста, Белинского о Пушкине и Лермонтове; вот человек, который сам был скромным тружеником и притесненным бедняком, но умел всей душой ценить лейб-гусарство Лермонтова и светскость Пушкина. Вот объективность! Вот сила ума! Вот беспристрастие! Вот и H. Н. Страхов такой же! За что я его уважаю, хотя H. Н. Страхов против меня лично…