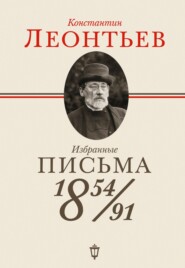По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Благодарность
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Благодарность
Константин Николаевич Леонтьев
«Жил в одном губернском городе очень добрый учитель немецкого языка, Федор Федорович Ангст. Ангсту было сорок семь лет, и он был холост Всем известно, что немец осторожен и сбережет себя на чорный день скорее, нежели кто-нибудь из прочих наций. Если б не легкая проседь в светло-каштановых волосах его, многие дали бы ему только тридцать семь лет. Но свежая наружность его была дряхла сравнительно с его сердцем. Такое сердце вряд ли часто придется сохранить и быстрому французу, и итальянцу, у которого, говорят, огонь горит в жилах. Сам я не видал итальянцев…»
Константин Леонтьев
Благодарность
I
Жил в одном губернском городе очень добрый учитель немецкого языка, Федор Федорович Ангст. Ангсту было сорок семь лет, и он был холост Всем известно, что немец осторожен и сбережет себя на чорный день скорее, нежели кто-нибудь из прочих наций. Если б не легкая проседь в светло-каштановых волосах его, многие дали бы ему только тридцать семь лет. Но свежая наружность его была дряхла сравнительно с его сердцем. Такое сердце вряд ли часто придется сохранить и быстрому французу, и итальянцу, у которого, говорят, огонь горит в жилах. Сам я не видал итальянцев.
Последнее время Федор Федорович оставил казенную квартиру, которую давала ему гимназия за то, что, кроме должности учителя, он правил еще и надзирательскую должность, – и поселился в своем коричневом домике, купленном за полторы тысячи серебром.
Эти деньги были частью того капитала, который получил он в наследство от старшего брата, скончавшегося в Гамбурге. Многие советовали Федору Федоровичу пустить эти деньги в обороты; другие уговаривали ехать в Москву и предпринять там преподавание в самых широких размерах, завесть пансион, или что-нибудь в этом роде.
Федор Федорович упорно отстаивал свое мнение и находил лучшим просто положить капитал в ломбард, купив на некоторую сумму домик.
«И притом, – возражал он, потряхивая слегка правою ногой, – я так люблю этот город: я в нем жил пятнадцать лет!»
И эти слова говорил он всякому, хотя только немногие могли запомнить то время, когда Федора Федоровича еще не было в городе.
Один небогатый помещик, давным-давно совсем обрусевший лифляндец, который хорошо знал и любил Федора Федоровича, потому что коротким с ним людям нельзя было его не любить, сказал ему раз, убеждая его ехать в Москву, «что это он все пустяки возражает!» И прервав свою озабоченную ходьбу по комнате, вдруг остановился перед ним и вскрикнул ему почти в ухо: «Ты можешь быть профессором, чорт возьми!» Потом, слегка ткнув его концом чубука в грудь и откинувшись назад, посмотрел на него такими страшными глазами, что Ангст испугался. Федор Федорович поколебался, несмотря на всю твердость своего характера: так опасны для человека отвсюду сыплющиеся и громящие мнения и соблазны! Наконец личные убеждения взяли верх над всем, и он остался. Самый лучший из его приятелей, русский старый чиновник, похвалил тогда его решение следующими словами:
– Так-то, брат, лучше. Доживай-ко с нами… или хоть до моей смерти побудь… Оно лучше, знаешь, у нас теплее; каково ни на есть, а все теплее… Это так! Да и метода твоя устарела… Куда тебе в столицу, там все молодежь, небось… забидит тебя вконец. А здесь и уроков у тебя с каждым годом все больше и больше… Теперь, если б ты был женат и за женой еще капиталец взял, так вместе с своим отчего ж бы пансион не затеять, хоть здесь, хоть в Москве… а то ведь метода твоя устарела!
После я вам скажу, отчего старый Васильев так желал, чтоб Федор Федорович остался.
Что касается до Ангста, то он долго думал, зачем Николай Николаевич дерзко отзывался об его методе. «Чем же моя метода, – говорил он, – устарела?»
Но способность задумываться по целым дням лежала в натуре Федора Федоровича.
В нем было много странностей.
Домик был очень удобен. Все было близко от него: и учебное заведение, при котором он состоял, и рынок, и лавки, и самый частный пансион, где было самое доходное место Федора Федоровича. Но местоположение его было грустно, на конце глухого переулка, упиравшегося в крутой берег огромной лощины, где со всех сторон сближались огороды соседних мещан и купцов; за лощиной на далекое пространство громоздились перед глазами крыши лачужек и домов: только местами темная масса их разнообразилась или светло-зеленою крышей, или группой древесных верхушек, поднимавшихся с какого-нибудь палисадника, или наконец колокольней, то новою, с сверкающим шаром наверху и крестом, то живописно-дряхлою, покрытою мелкими окошечками.
Стены дома были темно-оранжевые, ставни белые. На этом цвете стен, удобном для грунта, резко выступали разные растения и кустики палисадника, разведенного недавно самим немцем, придавая необыкновенно пестрый вид и без того яркому домику. Самые мальвы, такие грубые вблизи, были очень кстати с своими теневыми цветами, восходившими от бледно-бланжевого до прелестного густо-малинового цвета.
Внутри все было чисто, начиная от жолтой залы и голубых ширмочек на ее окнах, до маленького кабинетца, в котором Федор Федорович клеил коробочки, баулы, рамки, лил из металлов разные вещи и золотил то к Святкам Для детских елок орехи, то яйца к Святой неделе.
И никакие тревоги, казалось, не проникали ни в жол-тую залу, ни в кабинет, где он клеил, золотил и лил. Везде он был один и тот же, высокого роста и немного полный, с широкою головою, белокурыми волосами, слегка поседевшими больше от головной боли, которою он часто страдал, длинным прямым носом, с улыбкой, имевшею луч саркасма, как будто озабоченными беглыми светло-голубыми глазами, молчаливостью и беспрестанно трясшеюся правою ногою.
Читал он вообще немного, хотя и любил сказать иногда ни с того, ни с сего: «Эти науки!.. Удивительно! с тех пор, как я стал изучать науки, сейчас увидел, что все в жизни пустяки!» И долго после этого он с тонкостью смотрел на своего собеседника, желая прочесть на лице его тот страх, который может навести на всякого человека мысль, что все в жизни пустяки, даже самая философия, которая все это открыла.
В класс он никогда не опаздывал. Только раз пришел получасом позже, и этот случай так замечателен по своим последствиям, что нельзя прейти его молчанием; это еще было до покупки дома.
Федор Федорович, по обыкновению, услыхав звонок со двора частного пансиона, отправился в класс.
Он пришел уже в ту комнату, где стоит водоочистительная машина для воспитанников, не знающих урока, и сторож снял с него пальто.
– Ты повесь его! – заметил немец, подозрительно глядя на него.
Угрюмый сторож, который, по причине своих толстых подошв, совсем отвык употреблять пятки и, казалось, не ходил, а механически стремился вперед, – повесил пальто.
– Ты не замарай его, – присовокупил немец. Сторож провел по одежде рукою, как бы заранее счищая с нее всякую дрянь.
Федор Федорович пошел было, но вдруг детский крик раздался в стороне столовой.
Потом послышалось что-то вроде мольбы и рыданий. Потом все смолкло.
Поняв, в чем дело, и, повинуясь внутреннему влечению, Ангст пошел на голос, отворил дверь и увидел приготовления к известному всем процессу, так часто бывающему в школах.
Содержатель пансиона, заметив его, махнул сторожам, которые держали за руки белокурого и хорошенького мальчика лет тринадцати, и обратился к нему.
– А! – сказал он, – Федор Федорович! что вам угодно?
– Извините, вы хотели познакомиться с Лессингом, вы просили, чтоб я вам достал… Но я не мог. Я достал вам Бюргера.
– Очень, очень благодарен… Мы зайдем с вами наверх, а пока извините…
Потом прибавил по-немецки:
– Надо кончить эту печальную обязанность.
Федор Федорович взглянул на мальчика. По розовым щекам, до половины ушедшим в воротник, текли горькие слезы, слезы раскаяния и страха. В голубых глазах бедного ребенка Федору Федоровичу показалось столько страстной мольбы, столько отчаяния, что он, после минутной задумчивости, тряся ногой, начал следующим возгласом:
– Аа! это маленький Цветков. Вы его простите, Петр Петрович, он еще вчера обещал мне хорошо учиться.
– Помилуйте! у него пять единиц! Слышишь, Федор Федорович просит за тебя?!
– Федор… – начал было Цветков, но рыдания отняли у него голос.
Ангст попросил еще по-немецки, и инспектор, человек весьма мягкий, улыбаясь, взглянул на мальчика.
– Петр Петрович… Осокин меня толкнул. А я не виноват, ей-Богу, нет! Осокин меня толкнул, а я закричал…
– Довольно, довольно, – прервал содержатель, – ступай, глупенький, да смотрии!..
После этого, не слушая благодарности Цветкова, он взял Ангста под руку, и они ушли, а мальчик с различными козлами бросился вон из комнаты так радостно, что солдаты разжалобились.
Это жизнь-то их, право, господских детей! – сказал один, отодвигая скамью. Ведь, что еще за беда, что Дитя малое не выучилось?… Эх, право! и сечь напримерча нечего… Весь-то он сам, вот!
И он отмерил на огромном пальце такую часть, которая и вправду была немного менее Цветкова.
– Ну их! – отвечал другой, поласкав ус.
С этого дня незаметная, но несокрушимая связь связала Ангста с Цветковым.
Немец не забывал спасенного им мальчика, да и трудно было его забыть. Каждый день караулил его Цветков где-нибудь на повороте коридора, или в дверях, или на лестнице, и кланялся ему, осведомляясь о здоровье.
Константин Николаевич Леонтьев
«Жил в одном губернском городе очень добрый учитель немецкого языка, Федор Федорович Ангст. Ангсту было сорок семь лет, и он был холост Всем известно, что немец осторожен и сбережет себя на чорный день скорее, нежели кто-нибудь из прочих наций. Если б не легкая проседь в светло-каштановых волосах его, многие дали бы ему только тридцать семь лет. Но свежая наружность его была дряхла сравнительно с его сердцем. Такое сердце вряд ли часто придется сохранить и быстрому французу, и итальянцу, у которого, говорят, огонь горит в жилах. Сам я не видал итальянцев…»
Константин Леонтьев
Благодарность
I
Жил в одном губернском городе очень добрый учитель немецкого языка, Федор Федорович Ангст. Ангсту было сорок семь лет, и он был холост Всем известно, что немец осторожен и сбережет себя на чорный день скорее, нежели кто-нибудь из прочих наций. Если б не легкая проседь в светло-каштановых волосах его, многие дали бы ему только тридцать семь лет. Но свежая наружность его была дряхла сравнительно с его сердцем. Такое сердце вряд ли часто придется сохранить и быстрому французу, и итальянцу, у которого, говорят, огонь горит в жилах. Сам я не видал итальянцев.
Последнее время Федор Федорович оставил казенную квартиру, которую давала ему гимназия за то, что, кроме должности учителя, он правил еще и надзирательскую должность, – и поселился в своем коричневом домике, купленном за полторы тысячи серебром.
Эти деньги были частью того капитала, который получил он в наследство от старшего брата, скончавшегося в Гамбурге. Многие советовали Федору Федоровичу пустить эти деньги в обороты; другие уговаривали ехать в Москву и предпринять там преподавание в самых широких размерах, завесть пансион, или что-нибудь в этом роде.
Федор Федорович упорно отстаивал свое мнение и находил лучшим просто положить капитал в ломбард, купив на некоторую сумму домик.
«И притом, – возражал он, потряхивая слегка правою ногой, – я так люблю этот город: я в нем жил пятнадцать лет!»
И эти слова говорил он всякому, хотя только немногие могли запомнить то время, когда Федора Федоровича еще не было в городе.
Один небогатый помещик, давным-давно совсем обрусевший лифляндец, который хорошо знал и любил Федора Федоровича, потому что коротким с ним людям нельзя было его не любить, сказал ему раз, убеждая его ехать в Москву, «что это он все пустяки возражает!» И прервав свою озабоченную ходьбу по комнате, вдруг остановился перед ним и вскрикнул ему почти в ухо: «Ты можешь быть профессором, чорт возьми!» Потом, слегка ткнув его концом чубука в грудь и откинувшись назад, посмотрел на него такими страшными глазами, что Ангст испугался. Федор Федорович поколебался, несмотря на всю твердость своего характера: так опасны для человека отвсюду сыплющиеся и громящие мнения и соблазны! Наконец личные убеждения взяли верх над всем, и он остался. Самый лучший из его приятелей, русский старый чиновник, похвалил тогда его решение следующими словами:
– Так-то, брат, лучше. Доживай-ко с нами… или хоть до моей смерти побудь… Оно лучше, знаешь, у нас теплее; каково ни на есть, а все теплее… Это так! Да и метода твоя устарела… Куда тебе в столицу, там все молодежь, небось… забидит тебя вконец. А здесь и уроков у тебя с каждым годом все больше и больше… Теперь, если б ты был женат и за женой еще капиталец взял, так вместе с своим отчего ж бы пансион не затеять, хоть здесь, хоть в Москве… а то ведь метода твоя устарела!
После я вам скажу, отчего старый Васильев так желал, чтоб Федор Федорович остался.
Что касается до Ангста, то он долго думал, зачем Николай Николаевич дерзко отзывался об его методе. «Чем же моя метода, – говорил он, – устарела?»
Но способность задумываться по целым дням лежала в натуре Федора Федоровича.
В нем было много странностей.
Домик был очень удобен. Все было близко от него: и учебное заведение, при котором он состоял, и рынок, и лавки, и самый частный пансион, где было самое доходное место Федора Федоровича. Но местоположение его было грустно, на конце глухого переулка, упиравшегося в крутой берег огромной лощины, где со всех сторон сближались огороды соседних мещан и купцов; за лощиной на далекое пространство громоздились перед глазами крыши лачужек и домов: только местами темная масса их разнообразилась или светло-зеленою крышей, или группой древесных верхушек, поднимавшихся с какого-нибудь палисадника, или наконец колокольней, то новою, с сверкающим шаром наверху и крестом, то живописно-дряхлою, покрытою мелкими окошечками.
Стены дома были темно-оранжевые, ставни белые. На этом цвете стен, удобном для грунта, резко выступали разные растения и кустики палисадника, разведенного недавно самим немцем, придавая необыкновенно пестрый вид и без того яркому домику. Самые мальвы, такие грубые вблизи, были очень кстати с своими теневыми цветами, восходившими от бледно-бланжевого до прелестного густо-малинового цвета.
Внутри все было чисто, начиная от жолтой залы и голубых ширмочек на ее окнах, до маленького кабинетца, в котором Федор Федорович клеил коробочки, баулы, рамки, лил из металлов разные вещи и золотил то к Святкам Для детских елок орехи, то яйца к Святой неделе.
И никакие тревоги, казалось, не проникали ни в жол-тую залу, ни в кабинет, где он клеил, золотил и лил. Везде он был один и тот же, высокого роста и немного полный, с широкою головою, белокурыми волосами, слегка поседевшими больше от головной боли, которою он часто страдал, длинным прямым носом, с улыбкой, имевшею луч саркасма, как будто озабоченными беглыми светло-голубыми глазами, молчаливостью и беспрестанно трясшеюся правою ногою.
Читал он вообще немного, хотя и любил сказать иногда ни с того, ни с сего: «Эти науки!.. Удивительно! с тех пор, как я стал изучать науки, сейчас увидел, что все в жизни пустяки!» И долго после этого он с тонкостью смотрел на своего собеседника, желая прочесть на лице его тот страх, который может навести на всякого человека мысль, что все в жизни пустяки, даже самая философия, которая все это открыла.
В класс он никогда не опаздывал. Только раз пришел получасом позже, и этот случай так замечателен по своим последствиям, что нельзя прейти его молчанием; это еще было до покупки дома.
Федор Федорович, по обыкновению, услыхав звонок со двора частного пансиона, отправился в класс.
Он пришел уже в ту комнату, где стоит водоочистительная машина для воспитанников, не знающих урока, и сторож снял с него пальто.
– Ты повесь его! – заметил немец, подозрительно глядя на него.
Угрюмый сторож, который, по причине своих толстых подошв, совсем отвык употреблять пятки и, казалось, не ходил, а механически стремился вперед, – повесил пальто.
– Ты не замарай его, – присовокупил немец. Сторож провел по одежде рукою, как бы заранее счищая с нее всякую дрянь.
Федор Федорович пошел было, но вдруг детский крик раздался в стороне столовой.
Потом послышалось что-то вроде мольбы и рыданий. Потом все смолкло.
Поняв, в чем дело, и, повинуясь внутреннему влечению, Ангст пошел на голос, отворил дверь и увидел приготовления к известному всем процессу, так часто бывающему в школах.
Содержатель пансиона, заметив его, махнул сторожам, которые держали за руки белокурого и хорошенького мальчика лет тринадцати, и обратился к нему.
– А! – сказал он, – Федор Федорович! что вам угодно?
– Извините, вы хотели познакомиться с Лессингом, вы просили, чтоб я вам достал… Но я не мог. Я достал вам Бюргера.
– Очень, очень благодарен… Мы зайдем с вами наверх, а пока извините…
Потом прибавил по-немецки:
– Надо кончить эту печальную обязанность.
Федор Федорович взглянул на мальчика. По розовым щекам, до половины ушедшим в воротник, текли горькие слезы, слезы раскаяния и страха. В голубых глазах бедного ребенка Федору Федоровичу показалось столько страстной мольбы, столько отчаяния, что он, после минутной задумчивости, тряся ногой, начал следующим возгласом:
– Аа! это маленький Цветков. Вы его простите, Петр Петрович, он еще вчера обещал мне хорошо учиться.
– Помилуйте! у него пять единиц! Слышишь, Федор Федорович просит за тебя?!
– Федор… – начал было Цветков, но рыдания отняли у него голос.
Ангст попросил еще по-немецки, и инспектор, человек весьма мягкий, улыбаясь, взглянул на мальчика.
– Петр Петрович… Осокин меня толкнул. А я не виноват, ей-Богу, нет! Осокин меня толкнул, а я закричал…
– Довольно, довольно, – прервал содержатель, – ступай, глупенький, да смотрии!..
После этого, не слушая благодарности Цветкова, он взял Ангста под руку, и они ушли, а мальчик с различными козлами бросился вон из комнаты так радостно, что солдаты разжалобились.
Это жизнь-то их, право, господских детей! – сказал один, отодвигая скамью. Ведь, что еще за беда, что Дитя малое не выучилось?… Эх, право! и сечь напримерча нечего… Весь-то он сам, вот!
И он отмерил на огромном пальце такую часть, которая и вправду была немного менее Цветкова.
– Ну их! – отвечал другой, поласкав ус.
С этого дня незаметная, но несокрушимая связь связала Ангста с Цветковым.
Немец не забывал спасенного им мальчика, да и трудно было его забыть. Каждый день караулил его Цветков где-нибудь на повороте коридора, или в дверях, или на лестнице, и кланялся ему, осведомляясь о здоровье.