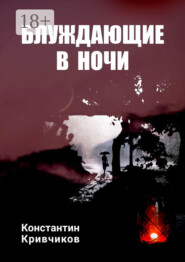По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сон об уходящей натуре. Поэма-аллюзия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
*
До светлого конца – обыгрывается название рассказа русского писателя А. Куприна «Светлый конец».
*
Во тьму – до светлого конца – тема «светлых путей» в такое же «светлое коммунистическое будущее» активно использовалась в СССР в пропагандистских целях. Корни её можно обнаружить в дореволюционных стихах и песнях, в частности, в песне «Мы кузнецы» на стихи пролетарского поэта Ф. Шкулёва, где есть такие строки: «Мы светлый путь куём народу, свободный путь для всех куём».
В советские времена широкое распространение получила практика присвоения предприятиям и организациям духоподъёмных названий вроде «Путь к коммунизму», «Рассвет» и «Светлый путь». Даже кинокомедию на «Мосфильме» в 1940 г. сварганил режиссёр Г. Александров, которая так и называлась – «Светлый путь». Ну а спустя сорок с лишним лет – после долгого и бессмысленного блуждания на этом пути – название уже иронически обыгрывалось в советском мультипликационном сериале «Возвращение блудного попугая». Снимал его режиссёр В. Караваев по сценарию писателя А. Курляндского. В одной из серий звучал следующий диалог:
«– Всё, приехали.
– Ты куда меня завёз?!
– Совхоз «Светлый путь».
– Какой светлый??? Не видно ж ничего!»
*
Век-волкодав – выражение поэта О. Мандельштама из стихотворения «Мне на шею бросается век-волкодав». Мандельштам был репрессирован в 1938 г. – в ночь с первого на второе мая арестован, приговорён к пяти годам заключения в ИТЛ (исправительно-трудовом лагере), отправлен по этапу на Дальний Восток и в конце декабря 1938 г. скончался в пересыльном лагере под Владивостоком.
Основной причиной гонений на поэта, в том числе и поводом для его первого ареста в 1934 г., стало стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны», созданное в 1933 г. и направленное лично против Сталина, «душегубца и мужикоборца». Пастернак назвал это стихотворение «актом самоубийства» и, как вскоре стало понятно, не ошибся.
Я процитирую стихотворение Мандельштама полностью из уважения к человеку, который вовсе не являлся храбрецом. Но у него хватило храбрости высказывать собственное мнение.
«Мы живём, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны, а где хватит на полразговорца, там припомнят кремлёвского горца.// Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны, тараканьи смеются глазища и сияют его голенища.//
А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет.// Как подкову, куёт за указом указ: кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни казнь у него – то малина, и широкая грудь осетина».
Вот такой литературный факт эпохи, который, по мнению Пастернака, не имел отношения ни к литературе вообще, ни к поэзии, в частности. А по мне – очень даже имел и будет иметь.
Однако у каждого своё представление о литературе и гражданском мужестве. Можно руководствоваться осторожной логикой небезызвестного Ужа и жить в соответствии с установленными нормами «техники безопасности». А можно руководствоваться совестью, платя по гамбургскому счёту. И это будет совсем другая логика, которую актёр и бард В. Высоцкий сформулировал так:
«На слово „длинношеее“ в конце пришлось три „е“. Укоротить поэта! – вывод ясен. И нож в него! Но счастлив он висеть на острие, зарезанный за то, что был опасен».
В общем, каждому – своё. И гамбургский счёт – в действительности никогда не существовавший – у каждого свой и особенный. Некоторые граждане умудряются вовсе по нему не платить, делая вид, что не знают о его существовании. Ну вроде «гражданина убегающего» из одноименной повести В. Маканина. Читали?
Это я к тому, что от себя не убежишь. Да и от эпохи – тоже. Всё равно достанет. К Б. Пастернаку это тоже относится.
*
Век-волкодав рычал Малютой – подразумевается Малюта Скуратов (он же – Григорий Скуратов-Бельский), российский государственный и военный деятель, ближайший сподвижник царя Ивана IV, один из руководителей опричнины. Прославился собачьей преданностью Ивану Грозному и жестокостью, лично пытая и казня бояр и дворян – из числа заподозренных в крамоле или по каким-то другим причинам неугодных царю-параноику. Прозвище Скуратова «Малюта» стало в России нарицательным, олицетворяя такие понятия, как «палач» и «злодей».
*
Терзая ужасом сердца – аллюзия на строки А. Пушкина «Ужасный век, ужасные сердца!» из пьесы «Скупой рыцарь».
*
Век-молох – сложная составная аллюзия.
Молох (вариант – молех, означающий на иврите «царственный») в Библии упоминается, как божество, которому приносили в жертву детей. Выражение «служить Молоху» означало у древних евреев страшный грех, караемый смертью. Российский режиссёр А. Сокуров, снявший тетралогию о власти, назвал «Молохом» её первый фильм, описывающий день из жизни А. Гитлера. Памятник жертвам политических репрессий в СССР, расположенный у входа на Левашовское мемориальное кладбище в Ленинградской области, носит название «Молох тоталитаризма». Вот такие аллюзии…
*
Грозя насильем мир разрушить – перефразируются строчки «Интернационала»: «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…»
*
Век-Эйзенштейн – имеется в виду советский режиссёр С. Эйзенштейн, создавший немой фильм «Броненосец Потёмкин» (признан одним из лучших произведений в истории мирового кино), а также фильмы «Стачка», «Октябрь», «Александр Невский», «Иван Грозный» и др.
*
Век-Хичкок – речь идёт о британском и американском режиссёре А. Хичкоке, снявшем классические фильмы в жанре «триллер», в частности: «Ребекку», «Окно во двор», «Головокружение», «Психо», «Птицы».
*
Творил в натуре беспредел – выражение из блатного жаргона, означающее крайнюю степень беззакония или беспорядка, а также грубое нарушение «воровских понятий». Данной теме посвящён советский фильм режиссёра И. Гостева «Беспредел», вышедший на экраны в 1989 г.
*
Заблудшая во мгле Россия – аллюзия на публицистическую книгу английского писателя Г. Уэллса «Россия во мгле».
*
Россия, отдавшись красному царю – аллюзия на песню советского музыканта и поэта И. Талькова «Россия», где есть такие строки: «Разверзлись с треском небеса, и с визгом ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя, новоявленные иуды».
*
И, как Сизиф, катила в гору – аллюзия на древнегреческий миф о Сизифе, согласно которому этот персонаж был приговорен к ужасному наказанию – после смерти в земном мире бесконечно катить в загробном мире на гору в Тартаре тяжёлый камень. Бесконечно, потому что едва Сизиф достигал вершины, камень скатывался вниз к подножью горы.
Впрочем, французский мыслитель А. Камю в эссе «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» рассматривал проблематику под другим углом зрения. Но это – отдельная и особая аллюзия.
*
Валун утопии фантомной – сложная аллюзия-каламбур, обыгрывающая значение слова утопия (в переводе с древнегреческого), как «места, которого нет», и коннотацию слова фантом в значении «призрак». Опирается аллюзия на первую фразу «Манифеста Коммунистической партии» (авторы К. Маркс и Ф. Энгельс): «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма».
*
За десять дней потрясшей мир – подразумевается документальная книга американского журналиста Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир», посвящённая Октябрьской революции и впервые опубликованная в 1919 г.
*
Пик возвышался коммунизма – обыгрывается одно из названий самой высокой горы СССР, расположенной на Памире. Первоначально вершину назвали «Пик Сталина», затем, в 1962 г. переименовали в «Пик коммунизма». После распада СССР власти Таджикистана в 1998 г. переименовали гору в честь основателя первого государства таджиков Исмаила Самани. И «Пик коммунизма» навсегда исчез с географических карт – фантом, он и есть фантом. Призрак, в общем, и утопия.
*
Как город солнца – имеется в виду произведение (классическая утопия) итальянского философа, теолога и писателя Т. Кампанеллы «Город солнца», описывающее идеальное государство будущего. По мнению исследователей утопии Кампанеллы в ней он предвосхитил отдельные идеи и принципы коммунистического учения. Но сам он тоже был неоригинален, многое заимствовав у своих предшественников, в частности, у англичанина Т. Мора, автора «Утопии».