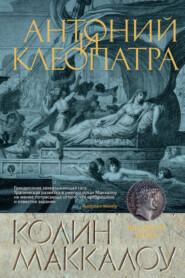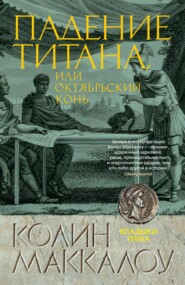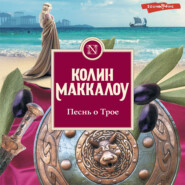По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Женщины Цезаря
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Единственный консул этого года вскинул руки, словно сдавался невидимому врагу, и распустил собрание.
– Когда ты намерен ударить? – спросил Цезарь Габиния, когда они вместе покидали курию Гостилия.
– Не сейчас, – весело ответил Габиний. – У меня и Гая Корнелия имеется кое-какое дело. Я знаю, обычно плебейский трибун начинает службу, совершив что-то выдающееся, но я считаю это плохой тактикой. Пусть сначала наши уважаемые будущие консулы Гай Пизон и Маний Ацилий Глабрион согреют курульные кресла своими задницами. Пусть они подумают, что Корнелий и я исчерпали репертуар. А уж потом я попытаюсь снова поднять эту тему.
– Вероятно, это случится в январе или феврале.
– Определенно не раньше января, – сказал Габиний.
– Значит, Магн уже готов взяться за пиратов.
– Он во всеоружии. Могу сказать тебе, Цезарь, что Рим не видел ничего подобного.
– Тогда скорее бы наступил январь. – Цезарь помолчал, загадочно посмотрел на Габиния. – Магну никогда не удастся привлечь на свою сторону Гая Пизона, который ни на шаг не отходит от Катула и от boni. Глабрион более перспективен. Он так и не забыл, как с ним поступил Сулла.
– Когда Сулла заставил его развестись с Эмилией Скаврой?
– Именно. В будущем году он будет лишь младшим консулом, но если можно опереться хотя бы на одного консула, это уже неплохо.
Габиний хихикнул:
– Помпей кое-что придумал для нашего дорогого Глабриона.
– Хорошо. Если ты сможешь разделить консулов будущего года, Габиний, ты далеко пойдешь.
Цезарь и Сервилия вновь стали встречаться в конце октября, когда она возвратилась из Кум, и страсть их нисколько не остыла, влечение не ослабло. Время от времени Аврелия пыталась что-нибудь выведать об их связи, но Цезарь свел свои откровения к минимуму. Он ничем не выдавал матери, насколько это серьезно и сильно. Сервилия ему по-прежнему не нравилась, но это никак не влияло на их отношения, потому что симпатия здесь необязательна. Возможно даже, что симпатия отняла бы у их отношений что-то важное.
– Я нравлюсь тебе? – спросил он Сервилию за день до того, как новые плебейские трибуны вступили в должность.
Она по очереди давала ему груди и не отвечала, пока оба соска не стали твердыми и она не почувствовала, как тепло начинает стекать вниз по животу.
– Мне никто не нравится, – сказала она, взбираясь на него. – Я или люблю, или ненавижу.
– Так удобно?
Поскольку чувство юмора ей было чуждо, она не отнесла его вопрос к их позе, но поняла его настоящее значение.
– Я бы сказала, намного удобнее, чем чувствовать просто симпатию. Я заметила, что, когда люди нравятся друг другу, они становятся неспособными действовать так, как должны. Они, например, не могут говорить друг другу горькую правду – из страха причинить боль. А любовь и ненависть допускают эту горькую правду.
– А ты сама хотела бы ее слышать? – спросил он, улыбаясь и лежа неподвижно.
Разговор отвлекал ее. Кровь Сервилии кипела, она испытывала потребность ощущать его движение.
– Почему ты не заткнешься и не продолжишь, Цезарь?
– Потому что я хочу сказать тебе горькую правду.
– Хорошо, тогда говори! – фыркнула она, массируя свои груди, раз он не делал этого. – О, как ты любишь мучить!
– Тебе больше нравится быть на мне, чем подо мной, – сказал он.
– Да. Так мне больше нравится. Теперь ты доволен? Мы можем покончить с этим?
– Еще нет. Почему тебе больше нравится эта поза?
– Потому что мой верх, конечно, – прямо сказала она.
– Ага! – воскликнул он, переворачивая ее. – Теперь – мой верх.
– Я бы этого не хотела.
– Мне нравится доставлять тебе удовольствие, Сервилия, но не тогда, когда это значит потакать твоему властолюбию.
– А как еще я могу насытить мое властолюбие? – спросила она, двигая бедрами. – Ты слишком тяжелый для этой позы.
– Ты совершенно права, говоря об удобстве, – сказал он, придавливая ее своим весом. – Если нет симпатии, то нет и необходимости уступать.
– Жестоко, – сказала она, сверкнув глазами.
– Любовь и ненависть жестоки. Только симпатия добра.
Но у Сервилии, чуждой симпатии, имелся собственный способ мести. Она вонзила свои ухоженные ногти в его ягодицу и провела к плечу пять параллельных кровавых дорожек.
Она пожалела об этом, потому что он схватил ее запястья, сжал до хруста костей, а затем заставил лежать неподвижно целую вечность, проникая в нее все глубже и глубже, сильнее и сильнее. Когда Сервилия наконец закричала, она не поняла, боль или экстаз исторг из ее естества этот крик. И какое-то время она была уверена, что ее любовь превратилась в ненависть.
Худшего не произошло, пока Цезарь не ушел домой. Эти пять алых полос были очень болезненными, на тунике остались следы крови. Опыт порезов и царапин, которые он время от времени получал в сражениях, говорил ему, что следует попросить кого-нибудь промыть их и забинтовать, иначе это грозит нагноением. Если бы Бургунд находился в Риме, все было бы проще, но в эти дни Бургунд жил на вилле Цезаря в Бовиллах с Кардиксой и восемью сыновьями, ухаживая за лошадьми и овцами, которых разводил Цезарь. Луций Декумий не подходил: он недостаточно чистоплотен. А Евтих разболтает своему другу, а тот – своим друзьям и половине членов общины перекрестка. Остается мать.
Аврелия взглянула на царапины и воскликнула:
– О бессмертные боги!
– Хотел бы я быть одним из них, тогда не было бы больно.
Мать вышла и вернулась, держа две миски: одну с водой, другую – с крепленым кислым вином. Она принесла также чистый египетский хлопок.
– Хлопок лучше, чем шерсть. Шерсть оставляет волокна в ранах, – заметила Аврелия, начиная с крепленого вина.
Ее прикосновения нельзя было назвать нежными, так что на глазах у Цезаря выступили слезы. Он лежал на животе, прикрытый настолько, насколько требовало ее понятие о приличии, и принимал ее помощь без звука. Он утешал себя тем, что без такой обработки мог бы умереть от заражения крови.
– Сервилия? – спросила наконец Аврелия, посчитав, что налила в царапины достаточно вина, чтобы предупредить нагноение, и приступая к омовению водой.
– Сервилия.
– Что же это за отношения? – строго вопросила мать.
– Не очень удобные, – ответил он и затрясся от смеха.
– Да, вижу. Она могла убить тебя.
– Когда ты намерен ударить? – спросил Цезарь Габиния, когда они вместе покидали курию Гостилия.
– Не сейчас, – весело ответил Габиний. – У меня и Гая Корнелия имеется кое-какое дело. Я знаю, обычно плебейский трибун начинает службу, совершив что-то выдающееся, но я считаю это плохой тактикой. Пусть сначала наши уважаемые будущие консулы Гай Пизон и Маний Ацилий Глабрион согреют курульные кресла своими задницами. Пусть они подумают, что Корнелий и я исчерпали репертуар. А уж потом я попытаюсь снова поднять эту тему.
– Вероятно, это случится в январе или феврале.
– Определенно не раньше января, – сказал Габиний.
– Значит, Магн уже готов взяться за пиратов.
– Он во всеоружии. Могу сказать тебе, Цезарь, что Рим не видел ничего подобного.
– Тогда скорее бы наступил январь. – Цезарь помолчал, загадочно посмотрел на Габиния. – Магну никогда не удастся привлечь на свою сторону Гая Пизона, который ни на шаг не отходит от Катула и от boni. Глабрион более перспективен. Он так и не забыл, как с ним поступил Сулла.
– Когда Сулла заставил его развестись с Эмилией Скаврой?
– Именно. В будущем году он будет лишь младшим консулом, но если можно опереться хотя бы на одного консула, это уже неплохо.
Габиний хихикнул:
– Помпей кое-что придумал для нашего дорогого Глабриона.
– Хорошо. Если ты сможешь разделить консулов будущего года, Габиний, ты далеко пойдешь.
Цезарь и Сервилия вновь стали встречаться в конце октября, когда она возвратилась из Кум, и страсть их нисколько не остыла, влечение не ослабло. Время от времени Аврелия пыталась что-нибудь выведать об их связи, но Цезарь свел свои откровения к минимуму. Он ничем не выдавал матери, насколько это серьезно и сильно. Сервилия ему по-прежнему не нравилась, но это никак не влияло на их отношения, потому что симпатия здесь необязательна. Возможно даже, что симпатия отняла бы у их отношений что-то важное.
– Я нравлюсь тебе? – спросил он Сервилию за день до того, как новые плебейские трибуны вступили в должность.
Она по очереди давала ему груди и не отвечала, пока оба соска не стали твердыми и она не почувствовала, как тепло начинает стекать вниз по животу.
– Мне никто не нравится, – сказала она, взбираясь на него. – Я или люблю, или ненавижу.
– Так удобно?
Поскольку чувство юмора ей было чуждо, она не отнесла его вопрос к их позе, но поняла его настоящее значение.
– Я бы сказала, намного удобнее, чем чувствовать просто симпатию. Я заметила, что, когда люди нравятся друг другу, они становятся неспособными действовать так, как должны. Они, например, не могут говорить друг другу горькую правду – из страха причинить боль. А любовь и ненависть допускают эту горькую правду.
– А ты сама хотела бы ее слышать? – спросил он, улыбаясь и лежа неподвижно.
Разговор отвлекал ее. Кровь Сервилии кипела, она испытывала потребность ощущать его движение.
– Почему ты не заткнешься и не продолжишь, Цезарь?
– Потому что я хочу сказать тебе горькую правду.
– Хорошо, тогда говори! – фыркнула она, массируя свои груди, раз он не делал этого. – О, как ты любишь мучить!
– Тебе больше нравится быть на мне, чем подо мной, – сказал он.
– Да. Так мне больше нравится. Теперь ты доволен? Мы можем покончить с этим?
– Еще нет. Почему тебе больше нравится эта поза?
– Потому что мой верх, конечно, – прямо сказала она.
– Ага! – воскликнул он, переворачивая ее. – Теперь – мой верх.
– Я бы этого не хотела.
– Мне нравится доставлять тебе удовольствие, Сервилия, но не тогда, когда это значит потакать твоему властолюбию.
– А как еще я могу насытить мое властолюбие? – спросила она, двигая бедрами. – Ты слишком тяжелый для этой позы.
– Ты совершенно права, говоря об удобстве, – сказал он, придавливая ее своим весом. – Если нет симпатии, то нет и необходимости уступать.
– Жестоко, – сказала она, сверкнув глазами.
– Любовь и ненависть жестоки. Только симпатия добра.
Но у Сервилии, чуждой симпатии, имелся собственный способ мести. Она вонзила свои ухоженные ногти в его ягодицу и провела к плечу пять параллельных кровавых дорожек.
Она пожалела об этом, потому что он схватил ее запястья, сжал до хруста костей, а затем заставил лежать неподвижно целую вечность, проникая в нее все глубже и глубже, сильнее и сильнее. Когда Сервилия наконец закричала, она не поняла, боль или экстаз исторг из ее естества этот крик. И какое-то время она была уверена, что ее любовь превратилась в ненависть.
Худшего не произошло, пока Цезарь не ушел домой. Эти пять алых полос были очень болезненными, на тунике остались следы крови. Опыт порезов и царапин, которые он время от времени получал в сражениях, говорил ему, что следует попросить кого-нибудь промыть их и забинтовать, иначе это грозит нагноением. Если бы Бургунд находился в Риме, все было бы проще, но в эти дни Бургунд жил на вилле Цезаря в Бовиллах с Кардиксой и восемью сыновьями, ухаживая за лошадьми и овцами, которых разводил Цезарь. Луций Декумий не подходил: он недостаточно чистоплотен. А Евтих разболтает своему другу, а тот – своим друзьям и половине членов общины перекрестка. Остается мать.
Аврелия взглянула на царапины и воскликнула:
– О бессмертные боги!
– Хотел бы я быть одним из них, тогда не было бы больно.
Мать вышла и вернулась, держа две миски: одну с водой, другую – с крепленым кислым вином. Она принесла также чистый египетский хлопок.
– Хлопок лучше, чем шерсть. Шерсть оставляет волокна в ранах, – заметила Аврелия, начиная с крепленого вина.
Ее прикосновения нельзя было назвать нежными, так что на глазах у Цезаря выступили слезы. Он лежал на животе, прикрытый настолько, насколько требовало ее понятие о приличии, и принимал ее помощь без звука. Он утешал себя тем, что без такой обработки мог бы умереть от заражения крови.
– Сервилия? – спросила наконец Аврелия, посчитав, что налила в царапины достаточно вина, чтобы предупредить нагноение, и приступая к омовению водой.
– Сервилия.
– Что же это за отношения? – строго вопросила мать.
– Не очень удобные, – ответил он и затрясся от смеха.
– Да, вижу. Она могла убить тебя.