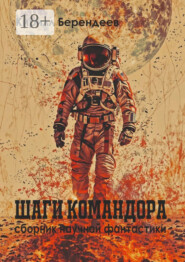По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Продавец воды
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И это ложь. Наша революция вдохновила соцстраны, все соседи по лагерю, дальние и ближние почти сразу пришли нам на помощь. Я мыслил прежде о юге, но ведь и нам помогали не меньше, а может, и больше, чем ему. И к нам приезжали профессионалы любого дела, учить молодых революционеров тяготам строительства развитого социализма, разбираться в экономике, финансах, политике, да во всем. Налаживали производства, строили предприятия, восстанавливали гидроэлектростанции, а нет, это уже после войны, но неважно, все равно помогали сперва обустроить страну, а затем возродить ее из пепла ковровых бомбардировок. Больше того, приезжали не только специалисты, инженеры и техники, даже агрономы, даже трактористы и те ехали помогать. И ведь вроде учились, вроде ухватывали мысль, вроде воплощали ее в дело. А как все рухнуло, вдруг оказалось, что у нас нет ничего и никого. Что неправильно вышло? В чем ошибка? Где корень проблем?
Даже автобус, который довез нас до гостиницы, и тот построен неведомо когда нашим соседом. Даже гостиница и та… а у нас нет собственных самолетов, поездов, ракет, нет, ракеты у нас есть, ядерное оружие и… и вот эти трактаты на полках каждого номера каждого отеля или пансионата в стране. Точно вся древесина уходит на них, а не на костюмы.
Ведь прекрасная же идея, светлая, неоспоримая…. Так что же мы не можем жить с ней в ладу? Нас тянет в будущее, а руки жаждут заграбастать чужеземный костюмчик, будто в нем средоточие всех благ всего мира. Я остановился, сам не заметив, как кружу по маленькому номеру. Обидно, очень обидно. Особенно перед теми, кто приезжает сюда. Верно, подсознательно ощущая это, администрация выложила на полки туалетных столиков весь дефицит, накопленный под полой, поставила телевизоры и даже холодильники, – роскошь, многим, вот хоть нашей семье, пока еще недоступная. И туалетная бумага, вроде мелочь, но поди ее найди. А ведь сколько пионеры макулатуры сдают, сколько деревьев берегут в год – и не сосчитать. Книги на хорошей бумаги печатают…
Вздохнув, пошел мириться с соседом. А он будто и не слышал моих слов, произнес пару фраз о теплой погоде и предстоящем хорошем дне и, пожелав мне приятной ночи, лег в постель. Немного посидев возле окна, я последовал его примеру. Самолеты все прибывали, казалось, весь юг скоро окажется здесь.
Я принял снотворное, наутро проснулся с дурной головой, но свежим и выспавшимся. Мысли не тревожили, их напрочь прогнал барбитурат, я даже удивился ясности, внезапно воцарившейся в голове. Скорее пустоте, поселившейся там. Встал, умылся, побрился, и вспомнил о своих мыслях, лишь когда к нам пришла комендант и попросила приготовиться и собраться, а мне велела идти вниз, заполнить бумаги.
Вот тут я снова вздрогнул, обернулся, как-то беспомощно, к своему соседу, он улыбнулся и кивнул в ответ, и поплелся за представительной женщиной, ведшей меня в небольшую комнатку, в которой уже ожидали еще около дюжины новичков, а так же инструктор, последний раз повторивший все то, о чем я так хорошо помнил. Затем мы подписали бумаги, регламентирующие нашу встречу, и только после этого я снова начал думать о маме. Волнение прошибло стену, возвещенную снотворным, я заволновался, но принимать успокоительное сейчас не стал. Наконец, нас отпустили на завтрак.
Мужчина уже сидел за нашим столиком, а вот дамы отсутствовали, возможно, готовились. Мы поели перловки – я еще попытался извиниться за вчерашние слова, но он только рукой махнул: мало что бывает перед такой встречей. После чего, взяв на себя роль гида, повел в конференц-зал, находившийся в отдельном здании, недлинным наружным коридором, примыкавшим к крылу гостиницы.
Больше всего помещение походило на ангар, откуда на время встречи эвакуировали технику. Гигантский приземистый ангар, в котором сейчас находилось множество столиков метра на полтора-два, отстоящих друг от друга. Некоторые были уже заняты, иные свободны. Я растерялся, нерешительно остановился у входа, поджидая инструктора, наконец, тот появился и начал рассаживать нас за обозначенные места, подписанные почему-то латиницей. На столе, застеленным простой, без рисунка, скатеркой, лежало блюдо с бутербродами со щучьей икрой, деликатесом, заменявшим в нашей стране икру черную, вазочка с протертой клюквой и горячий чайник с зеленым чаем, очевидно, с плантаций нашего соседа. Посмотрев на эти скромные дары, я почему-то прикусил губы и отвел глаза от мужчины, лишь кивнул ему, видя как он пробирается к своему месту, так же обозначенному чужой письменностью. Я изучал в школе английский, как многие, верно. Но никогда нам не казалось это странным. Ведь, школьники проходят язык главного врага отчизны, воевавшего на стороне юга в гражданскую и сейчас не оставлявшего козней против нас, больше того, именно его стараниями вот уже полвека длится и длится бесконечная блокада республики…
Я одернул себя, вдруг подумав, а все же воспитание бабушки пустило во мне корни настолько глубоко, что я уже начинаю подсознательно размышлять о чем-то пропагандистском, лишь бы успокоиться и снова перестать размышлять о том, что произойдет буквально через…
В эту секунду противоположная дверь конференц-зала открылась, я обернулся. В нее начали входить гости, прилетавшие самолетами, обычно классовые враги, но сейчас родные и близкие здесь собравшихся. Дверь находилась невдалеке от того места, где меня посадили, все входившие оказывались хорошо мне видны. Пристально вглядывался в каждую входившую, искал, но не выискивал. Комок в горле подкатил и никак не желал отступать.
Прежде я не видел иностранцев вовсе, даже в поездках в столицу не доводилось с ними встречаться. Что неудивительно – ведь каждого из них сопровождали спецслужбы, не давая отклониться от заранее проложенного маршрута. Вот мы и не пересекались в своих отмеченных в блокнотах путях. Чужеземцев я видел разве что по телевизору, в фильмах из-за рубежа или в хронике об очередных интригах и кознях южан. Лишь сейчас, став стариком почти шестидесяти лет, узрел. И поразился. Наверное, находись они в другой комнате, выпучил бы глаза и разглядывал безо всякого стеснения. Совершенно другие, чужие, чуждые люди, разительно не похожие на нас ни в манере одеваться, ни говорить, ни общаться, ни… ни в чем. Они шумной толпой втянулись внутрь громадного помещения, громко разговаривая, указывая пальцами, на столики, на людей, – такое поведение прежде даже у них считалось верхом неприличия. Немолодые люди, они одевались как пацаны и пацанки, и вели себя ровно так же: шумно, несдержанно. Быстро заполняли зал, отчего тот загудел, ровно пчелиный улей. А затем стали доставать из карманов странные пластинки, которые, – я читал о таких в прессе, – являются для них средоточием потребительской жизни – мобильные телефоны, способные записывать видео, снимать фото, соединяться друг с другом, отправляя сообщения, документы, рисунки, и да, еще и звонить, говорят, по всему миру. Вот эти самые плоские коробочки, через которые они оглядывали зал, верно, выискивая своих или просто фотографируя собравшихся, а порой и самих себя, – что выглядело довольно странно.
Следом вошли телевизионщики с юга, с небольшими камерами и волосатыми микрофонами на длинных шестах, хорошо хоть они пока остались в стороне, поджидая, пока собравшиеся не найдут друг друга в воцарившейся сутолоке. И тогда уже отлепятся от стен, которые сейчас подперли, и пойдут что-то выспрашивать, бесцеремонно вторгаясь в интимные беседы разлученных войной и границей родственников. Жаль, их не догадались отгородить друг от друга хотя бы невысокими жалюзи, ведь знали же, как все это будет происходить.
Я почувствовал на себе пронзительный взгляд, поднял глаза, невольно опущенные, когда стишком уж настойчиво заглядывался за соседний столик, где воссоединившаяся семья о чем-то общалась, активно жестикулируя, при этом, северяне старательно принимали манеру соседей говорить и обезьянничали. Это выглядело со стороны настолько неловко, несуразно даже, что я невольно отвел взгляд. И тут ощутил… вскочил, едва не уронив стул. Сердце заколотилось неистово, буря мыслей пронеслась и тотчас опала, оседая на дно разума.
Она не изменилась. Вернее, осталась удивительно похожей на ту, двадцатилетнюю, с потрепанной фотокарточки. Постарела, но выглядела при этом удивительно молодо, казалось, я встречаюсь не с мамой, а с сестрой. Короткие волосы, седина в которых закрашена нежно розовым цветом; странным образом этот оттенок ей шел. Белоснежное лицо с редкими бороздками морщин, собравшихся у краешков глаз и возле ушей. Темные пронзительные глаза, не потерявшие глубины. Высокий лоб, на который небрежно скругляется розоватый завиток волос. Строгий брючный костюм блекло-синего цвета с металлической искрой, белая в полоску сорочка с бурой янтарной брошью.
Я сделал неловкий шаг вперед, не отводя взгляда. Вдруг ощущая себя давно потерявшимся ребенком, которому все прошедшие годы, всю жизнь не хватало, быть может, именно того, что принесла с собой эта женщина, которую я никак не могу назвать ни по имени, ни по родству. Женщина с фотографии, бережно хранимой сперва отцом, затем мной, переходящей словно талисман, из рук в руки, с негасимой надеждой на встречу, состоявшуюся лишь спустя пятьдесят лет после начала разлуки. Встречу, так давно ожидаемую, так лелеемую, что о ней нельзя было поминать даже среди самых близких. Невообразимо безнадежную прежде, почти невозможную даже сейчас – и все же случившуюся. В которую и сейчас все еще так трудно поверить.
Я смотрел на нее, она на меня, мы молчали, счастье, нас никто не трогал, не обращал внимания, даже инструкторы, осторожно проходящие мимо столиков и посматривавшие больше за журналистской братией, нежели за встречающимися. Наконец, она молча протянула руку, я коснулся ее, а затем прижал к сердцу. Мама молча обняла меня, мысли снова улетучились, туда им и дорога. Не хотелось ни о чем думать, ничего вспоминать. Все промелькнуло и исчезло, остались только мы и стол, за который мы сели, сдвинув стулья, глядя друг другу в глаза, стараясь не отрывать взгляда, и все это – по-прежнему молча. Точно боясь случайным словом нарушить первые мгновения встречи.
Она вздохнула с видимым облегчением, придвинула поближе стул, меня снова обдал теплый летний аромат ее духов. Тоже странно, что в таком возрасте… но я уже не рассуждал о всех странностях увиденного. В женщине, сидевшей подле меня все казалось невозможно далеким, непонятным, но сама она по-прежнему оставалась той, которую изображала карточка, к которой я мысленно стремился все эти годы, задавая самые разные вопросы и ища подходящие ответы к ним.
Наконец, их время пришло. Сколько раз я пытался выстроить фразу, с которой бы начал наш разговор, ни единожды мне этого не удавалось. Как выяснилось, и хорошо. Я могу просто молчать и смотреть на нее. Разве что…
Мне, наконец, пришла в голову фраза, та самая, которую, подсознательно, я давно хотел произнести, но все никак не мог облечь в слова:
– Как ты там?
Она снова улыбнулась, открыла сумочку и достала толстый конверт с множеством фотографий.
Халил Наджат Дулари
…Представим себе, что мы, живые существа, – это чудесные куклы богов, сделанные ими либо для забавы, либо с какой-то серьезной целью…
Платон «Законы»
– Гутен абенд, уважаемый, погодите минутку…
Он вздрогнул, остановился. На мгновение голос показался знакомым, никак не мог понять, где мог его прежде слышать. Странное сочетание немецкого и арабского покоробило, после переезда в Баварию, он предпочитал говорить только на тутошнем наречии, южнонемецком, достаточно сильно отличающимся от официального прусского. Мягче и напевней, больше походивший на язык родины, а потому, хоть и незнакомый, но узнаваемый, как ему казалось поначалу. Но все равно, первые месяцы никак не мог привыкнуть к нему. Иногда просыпался в холодном поту, терзаемый скопищами воспоминаний. И потом долго приходил в себя, оглядываясь в предрассветной мути собирающегося утра. Только теперь, по прошествии пяти лет, сны перестали беспокоить его – по крайней мере, не так сильно тревожили. Он уже примирился и с местом и с временем. Потихоньку становился как все – как все, прибывшие из его краев, с Ближнего Востока, в края чужие, холодные, не слишком дружелюбные к пришлецам, но хотя бы спокойные и уверенные в завтрашнем дне, непоколебимо ничем не отличающимся от дня нынешнего.
– Погодите, я не так быстр, как вы, – произнес мужчина, задыхаясь. – Я только спросить хотел…
Голос замер. Замер и остановившийся. Оба вдруг замолчали, установилась какая-то дикая, ватная тишь, в которой не слышалось вообще ничего: плеск воды, шум проезжавших по улице машин, людские голоса – все это ушло в никуда, растворилось, истаяло.
Он медленно повернулся к поспешавшему.
– Дулари? – чуть изумившись, спросил тот. И тут же: – Нет, в самом деле, Дулари. Подумать только!
– Ахмад? – обреченно ответил его собеседник. Тот, разом отбросив вежливый тон, подошел, вальяжно похлопал по плечу, посмотрел в глаза. Улыбнулся.
– Все тот же Халил Наджат Дулари. За что купил, за то и продаю, – хмыкнул он собственной старой шутке.
Воспоминания, вырвавшиеся как зверье, на волю, мгновенно пожрали разум. Халил не мог пошевелиться, скованный ими. Смотрел исподлобья на подошедшего, похлопывавшего его по плечу, по щеке, довольного, враз обретшего былую уверенность, нет, с этой уверенностью жившего, – и там, и тут. Нагловатого, если не хамоватого хитреца, умевшего уладить и обстряпать любые дела. Как странно, как удивительно, что Халил смог забыть его здесь. Такие люди, нет, они не могут исчезнуть вот так запросто. Физически не способны.
– Господин мой Ар-Рашид Ахмад ибн Юсуф, – обреченно произнес он. Тот в ответ снова хмыкнул.
– Ну что ты. Мы же в Европе, здесь мои друзья, да и просто знакомые зовут меня аль-Джарх, называй так и ты.
– Аль-Джарх… – он перекатил имя по языку. То неприятно царапнуло небо. – Кого же вы проверяете, уважаемый? И на какой предмет?
Знакомая улыбка.
– Непросто тебе тут, да? – вопросом на вопрос ответил Ахмад. – Все боишься, оглядываешься, шарахаешься. Местные нападали, нет? Эти могут, тут молодежь диковата, прям как в нашей дыре, – снова смешок. – Да что ты на меня так смотришь, Дулари, столько времени прошло, такое расстояние от дома оба проделали, а ты – как будто ничего не изменилось. Не бойся, ни ты, ни я уже не те, что прежде. Все переменилось. Европа, кругом Европа, – хмыкнул он. – Все другое. И мы, тем более, другие. А как иначе, Дулари, приходится приспосабливаться. Вот посмотри на меня, – мог и не говорить, Халил и так не сводил с бывшего хозяина взгляда. Не смел, как и прежде, отвести взор, ведь, иногда за подобную вольность получал палкой по ребрам. – Да не так, дружок, просто глянь. Совсем тебя затюкали. Я вроде бы беженец, всеми местными презираемый в душе человек, а и то, притерпелся, больше того, принял их – ну как же, им пророк Иса заповедовал подставлять вторую щеку, когда бьют по одной. Значит, нам тоже положено. На первое время, – зачем-то прибавил он. И махнул рукой в сторону набережной.
Халил невольно посмотрел в ту сторону. Будто ожидая приказаний.
– Видишь, вон там кафе «Конунг». Хорошее местечко, я там часто бываю. Пиво, сосиски в тесте, капуста и говяжьи языки, можно посидеть в тишине, поразмыслить.
– Я не пью, Ахмад.
– Аль-Джарх.
– Простите.
– Давай по-простому, без этих эпитетов. Как тут принято. Привыкай к тутошним порядкам и не выделяйся, чтоб жилось легче. Я вот уже привык, тебе давно пора. Скоро конец сентября, приедут гости со всей Германии, будут пить, гулять, веселиться. Осень, Октоберфест. Три недели веселья, море пива, сосисок, роскошных девок в непристойных декольте, носящихся среди гостей с литровыми кружками – по шесть, а то и больше за раз. Всегда удивляло, какие же они выносливые… и смазливые.… Да я не о том. Вот когда все аборигены будут радоваться жизни, валяться по кустам, блевать на мостовые, – ну чем не праздник? А ты продолжишь сидеть в сторонке, как пришибленный. Нехорошо это. Мы собираемся в бывшем доме имама, ведем беседы, пьем чай, ну и кой-чего покрепче тоже – как в старые времена, когда и у нас можно было. Приходи и ты, что сидеть в одиночестве. Приходи, Дулари или как теперь тебя… да неважно, приглашаю по старой памяти. И не вздумай отказаться.
– Зачем я вам, Аль-Джарх?
– Ты где живешь? Ну что я, все мы в одном квартале напиханы, просто заглядывай в соседскую дверь. Небось, ни разу не ходил в старый дом? Да?
– Ни разу, – кивнул Халил.
– Вот-вот, а надо бы. Каждую пятницу после намаза. Это чтоб проще атеистам, вроде тебя, понять, – ничего не забыл, все помнит. Жуткая память.
Халил снова вздрогнул, отводя взор. А потом неожиданно как-то почувствовал себя легче. В самом деле, что на него нашло, это Мюнхен, столица, вольный город. Здесь нет законов иных, кроме светских, иной уклад жизни. Прав аль-Джарх, тут либо противиться ему изначально, пытаясь выстроить и отстоять свой маленький островок, либо сдаться и принять все, чем живут туземцы. Даже вот этот разгульный, дурной Октоберфест.
Он снова вздрогнул, сжался и распрямился. Чужие слова привычно проникли в разум, утвердившись в нем, будто родные. Будто и не прошло девяти лет с того момента, как он стал свободным человеком, долгих лет изгнания – сперва из дома, города, потом из страны. Ведь тогда, когда-то давным-давно, сейчас даже не верится, что те времена действительно были, он и думал и жил совсем иначе.