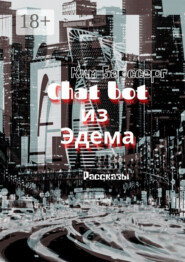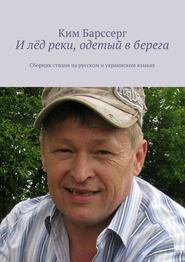По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Протуберанцы. Социальный роман
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Знаю я ваши закоулки, – возразила Энико, – бары, вендегло, «sor, bor, palinka»[15 - «пиво, вино, самогон» – (венг.)], – так и уедете в Союз незнайками, рассказать нечего будет. А так, хоть фотографии на память останутся.
– Ты знаешь, Аня, – сказал я, – не вовремя ты со своей экскурсией, ох, как не вовремя. Ко мне отец с братом приехали. Я планировал после сегодняшних субботних занятий уехать в Будапешт, чтобы побыть с родственниками – не вовремя всё это.
На что Энико мне возразила:
– Знаешь, ничего. Один вечер побудут и без тебя. У нас будет экскурсия по городу, а затем автобус в полном составе поедет в Будапешт. И ты, часам к восьми вечера, уже будешь обнимать своих родственников. А завтра в воскресенье покажешь им столицу Венгрии.
– Нет, Аня, я всё-таки поеду в Будапешт. Ты не знаешь, когда командир собирается обратно?
– Наверное, скоро, – ответила Энико.
– Вот, а я к нему подойду и объясню ситуацию, да заодно и уеду с ним на командирской «Волге». А в следующую субботу на экскурсии буду обязательно. Поеду туда, куда вы её запланировали.
– В Мишкольцы, – сказала Энико, – там очень интересно, я была. Представляешь, с самой вершины горы, под землей, бежит подземная река и впадает в бассейн, который находится у подножия горы, и по этой реке, в пещерах, сплавляются туристы. Там так красиво и жутко, что дух захватывает. Это надо обязательно увидеть.
– Хорошо, – буркнул я, – буду, увижу, обязательно, непременно.
Не мог же я сказать ей, что у меня на сегодня запланирована встреча с женщиной по имени Ладжза, что на венгерском означало «воительница».
– Папа спрашивает, куда ты пропал, почему не заходишь к нам? – Мило пролепетала Энико, – он собирается скоро ехать в Москву по своим дипломатическим делам, хотел о чём-то поговорить с тобой.
– Зайду, Аня, зайду милая, – ответил я, – лучше скажи ему, пусть ко мне приедет на улицу Ракоши, с отцом и братом познакомлю, тем более он знает где я живу.
Аня многозначительно посмотрела на меня и радостно выдохнула:
– А у меня в понедельник экзамены по русскому языку. Вот так.
– А на базе каких литературных произведений ты изучаешь русскую речь? – спросил я Энико.
– Произведения Достоевского, – ответила Энико, – я же учусь на филолога-русиста в Будапештском университете имени Этвёша.
– А, вот оно что! – Возрадовался я, – так тебе, как русисту, надо ещё и «феню» знать, вдруг на экзамене спросят?
– А что это такое, сленг? – удивленно спросила Энико.
– Да, язык, сформировавшийся на Руси в эпоху средневековья и первоначально использовавшийся офенями – бродячими торговцами. Это язык для общения – «не для чужих ушей», который впоследствии был перенят уголовной средой, – ответил я, – вот, например: «По фене ботал, права качал, по тыкве схлопал и замолчал».
Энико громко рассмеялась:
– Ну, ты дурашка, «буквицы сии зело многочисленны, притом тяжек труд нам разбирать их», – на древнеславянском ответила мне Энико, и мы искренне расхохотались над неожиданной концовкой нашего поединка заумности.
Глава третья
Из Секешфехервара в Будапешт
«Суть не в дороге, которую мы выбираем;
нас заставляет выбирать дорогу то, что внутри нас»
О. Генри
То, что было связано с СССР и его вооруженными силами, исполнявшими интернациональный долг по Варшавскому договору, ушло в забвение, и мало кто об этом помнит. А в восьмидесятых годах прошлого столетия военные просто выполняли свою работу, и следует отметить, очень даже неплохо. В зиму 1986 года, в январе, Восточную Европу накрыл циклон, в буквальном смысле этого слова, завалил Венгрию снегом. По ощущениям, высота снежного покрова доходила до 2-х, а то и до 3-х метров. Теплолюбивые и привычные к мягкой европейской зиме, мадьяры оказались технически неспособными бороться с зимней стихией. Хуже всего дело обстояло с автотранспортными коммуникациями. Население городов было отрезано друг от друга сплошными сугробами на автомобильных дорогах. Железнодорожное сообщение прервано между основными городами. Населённые пункты оказались в полной изоляции от возможности снабжать их продуктами питания. На венгерском горизонте замаячила голодная зима.
По решению командования ЮГВ на все виды мадьярских дорог были выведены сотни единиц инженерной техники. Наши солдаты и офицеры пробивали дороги в снежных заносах, освобождая от зимнего плена людские селения. Доходило до того, что беременных венгерских женщин доставляли в роддомы на БМП. А хлеб с полевых хлебозаводов отвозили в близлежащие селения. И всё это делалось безвозмездно, не за награды – интернациональная взаимовыручка. Сами венгры об этом, наверное, уже и не помнят – они забыли всё это буквально через пару лет. И в девяностых годах советских военных провожали в Союз уже, как оккупантов, на стенах домов, и везде, где было возможно, венгры расклеивали плакаты – затылок с фуражкой и надпись: «Elvtаrsak, menj haza!»[16 - «Товарищи, идите домой!» – (венг.)].
Коротка человеческая память. И всё же приятно было вспоминать, что среди наши военных в Венгрии были не только дезертиры, плохие водители и спекулянты. Были и добрые отзывчивые люди, готовые на самопожертвование и благородные поступки. И таких было большинство.
Участок европейского маршрута Е71, который соединяет столицу Венгрии – город Будапешт, и административный центр медье (графство) Фейер – город Секешфехервар, необходимо было преодолевать, по правилам дорожного движения по автобану на скорости не менее 100—160 км/час. Однако наш военный ЗИЛ-131 с кунгом, на котором я решился добраться до Будапешта, мог развивать по трассе скорость до 85 км/час, не более. Командирская «Волга» не смогла вместить в себя всех офицеров старшего сословия и мне, как заместителю начальника ПТО, пришлось договариваться со старшим машины, так называемого «Студебеккера», начальником ЦМС, старшим лейтенантом Разумовским.
Я окинул взглядом территорию центральных материальных складов и понял, что молодежь уже уехала на экскурсию, а народ постарше рассредоточился в своих «каптёрках». Разумовского я отыскал в «прорабке» на территории ЦМС, где он со своим помощником, прапорщиком Аусом – эстонцем по происхождению, с загадочным видом что-то готовил на огромной сковороде.
– Вечер добрый вам в каптёрку, – поприветствовал я искусных поваров в военной форме и, втянув носом изумительный запах жареного мяса, спросил:
– По какому случаю сабантуй? И что за вкуснятина у вас готовится на сковороде?
– А вот, – ответил мне Разумовский, – прапорщик Аус отловил на территории базы великолепного кролика, которого мы буквально скоро будем кушать.
– Да, тут этих кроликов видимо-невидимо, – добавил прапорщик, нарезая армейским штык-ножом головку лука крупными кольцами, – под нашими складами на территории столько нор нарыли, что не сосчитать. Вот, под вечер, к ужину, и достаем по одному, – высказался прапорщик, поигрывая ножом, который в его огромных пудовых кулачищах казался просто детской игрушкой.
На столешнице офисного стола находились пара бутылок польской водки «Балтика» и армейская тарелка с нарезанными дольками венгерского сладкого перца.
– Ты что, на экскурсию не поехал? – Спросил меня Разумовский, – тогда прошу к нашему шалашу.
– Спасибо за приглашение! – Я снял фуражку, подошел к столу и нарезал белый мадьярский круглый хлеб, который проще было разломить руками на ломти, чем резать ножом, настолько он был свежим и бесконечно мягким.
– Мне в Будапешт надо, – продолжил я разговор, – только не знаю, на чём добираться? Не хотелось бы с автовокзала ехать. Может, у нас с базы какая-либо техника идет на Будапешт?
– Не переживай, Сева, – произнес Разумовский, – переворачивая распятого кролика на чугунной сковороде, – поедешь на ЗИЛ-131, отвезёте баллоны с кислородом на объект в южную группу, мне как раз старший машины нужен. Возьми с собой накладные на столе, которые я выписал, а пока прошу к столу, перекусим на скорую руку.
Выпив пресловутую польскую «Балтику» и закончив венгерский сливовый самогоном с невыносимым амбре, нас потянуло на разговоры.
– Игорь, – спросил я Разумовского, – а ты помнишь, как сюда приехал служить, ты же более опытный и раньше меня прибыл в Южную группу? В каком году ты приехал?
– Я приехал, дай Бог памяти, – почесал затылок Разумовский, – да, в аккурат в 1985 году, как раз в это время Горбачев ввёл свой пресловутый Указ о борьбе с пьянством, и в связи с этим наш выпускной банкет был весьма ограничен в питие. В Союзе нас очень тщательно инструктировали в вопросах распития крепких напитков, некоторые «политруки» и «молчу-молчу» – это начальник особого отдела, если ты не знаешь. Грозили страшными наказаниями за ослушание и игнорирование решения партии и правительства. Мы, будущие офицеры, надо сказать, весьма волновались. Никто не хотел рисковать будущей карьерой военного. Поэтому наш сабантуй на выпускном прошел достаточно скромно, по сравнению с предыдущими годами, – предался воспоминаниям старший лейтенант Разумовский, прикурив импортную сигарету.
– Затем небольшой отпуск, предписание, Киевский вокзал, и вот, я уже пассажир поезда «Москва-Будапешт». О, этот знаменитый поезд многие помнят – самый веселый поезд министерства путей сообщения. Я ехал со своими однокашниками по выпуску, ну, вы их не знаете. Буквально через пару часов мы собрали в нашем купе – человек десять. Кто это были? Да, молодые лейтенанты со всех вузов нашего необъятного Союза, военные из совершенно разных родов войск. Ребята умные, нагловатые, крепкие и уверенные в себе – будущие карьеристы. Попивали водочку, кушали родительские НЗ, звучала гитара, песни. Родину мы любили одну на всех, независимо от национальности. Хит-парад возглавляла песня Александра Дольского «Господа офицеры, я прошу вас учесть, кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь». В соседних купе никто не возмущался нашим поведением, хотя некоторые гражданские лица тоже пировали с нами, – вспоминая, Игорь, сделал паузу и продолжил, – ранним утром мы прибыли в Будапешт под крышу вокзала Келети. Головушка требовала пивка и хорошего сна. Встречали традиционно – военный патруль и пару офицеров из штаба ЮГВ. Практически строем нас провели к автобусам на глазах огромного количества венгров, которые не обращали на строй никакого внимания – видно к этому давно привыкли. В два автобуса с военными номерами набилось огромное количество военных – больше 50 человек. Старший офицер приказал закрыть шторки на окнах автобуса, и мы тронулись в Южную группу войск – в штаб группы. Несмотря на запрет, мы смотрели через окна, отодвинув шторки, на городские пейзажи совершенно другой страны. Великолепной красоты архитектура, иностранные машины, совершенно иначе одетые люди, чем наши сограждане. Возле какого-то здания старинной архитектуры стояла молодая пара и, на виду у всех, застыла в длящемся поцелуе. Для нас это был шок. Молодые женщины, идущие по тротуарам, были одеты в модные джинсы и футболки, под которыми не наблюдалось нижнего белья. Сейчас с улыбкой вспоминаю это, но тогда, был просто потрясен.
Слушая откровения Игоря, я вспоминал свой первый приезд в Будапешт. Прилетев в Домодедово с огромным чемоданом, добрался до Павелецкого вокзала на электричке. Затем выйдя на привокзальную площадь, а я был экипирован в военную форму по полной программе, сразу же был окружён таксистами разных мастей, предлагавших свои услуги. Сев в первое предложенное такси, я сказал водителю:
– До Киевского вокзала.
– До Киевского? – Переспросил меня таксист, – наверное, за границу едете, товарищ капитан?
Для таксистов, как я понял, все военные в морской форме были капитаны.
– Да, заграницу, – ответил я, глядя через лобовое стекло на многорядный железный поток, заполонивший кольцевую магистраль.
– Тогда, вот вам мой совет, – продолжал таксист, уверено перестраиваясь из ряда в ряд, двигаясь по трассе, не сбавляя скорости.
– Ты знаешь, Аня, – сказал я, – не вовремя ты со своей экскурсией, ох, как не вовремя. Ко мне отец с братом приехали. Я планировал после сегодняшних субботних занятий уехать в Будапешт, чтобы побыть с родственниками – не вовремя всё это.
На что Энико мне возразила:
– Знаешь, ничего. Один вечер побудут и без тебя. У нас будет экскурсия по городу, а затем автобус в полном составе поедет в Будапешт. И ты, часам к восьми вечера, уже будешь обнимать своих родственников. А завтра в воскресенье покажешь им столицу Венгрии.
– Нет, Аня, я всё-таки поеду в Будапешт. Ты не знаешь, когда командир собирается обратно?
– Наверное, скоро, – ответила Энико.
– Вот, а я к нему подойду и объясню ситуацию, да заодно и уеду с ним на командирской «Волге». А в следующую субботу на экскурсии буду обязательно. Поеду туда, куда вы её запланировали.
– В Мишкольцы, – сказала Энико, – там очень интересно, я была. Представляешь, с самой вершины горы, под землей, бежит подземная река и впадает в бассейн, который находится у подножия горы, и по этой реке, в пещерах, сплавляются туристы. Там так красиво и жутко, что дух захватывает. Это надо обязательно увидеть.
– Хорошо, – буркнул я, – буду, увижу, обязательно, непременно.
Не мог же я сказать ей, что у меня на сегодня запланирована встреча с женщиной по имени Ладжза, что на венгерском означало «воительница».
– Папа спрашивает, куда ты пропал, почему не заходишь к нам? – Мило пролепетала Энико, – он собирается скоро ехать в Москву по своим дипломатическим делам, хотел о чём-то поговорить с тобой.
– Зайду, Аня, зайду милая, – ответил я, – лучше скажи ему, пусть ко мне приедет на улицу Ракоши, с отцом и братом познакомлю, тем более он знает где я живу.
Аня многозначительно посмотрела на меня и радостно выдохнула:
– А у меня в понедельник экзамены по русскому языку. Вот так.
– А на базе каких литературных произведений ты изучаешь русскую речь? – спросил я Энико.
– Произведения Достоевского, – ответила Энико, – я же учусь на филолога-русиста в Будапештском университете имени Этвёша.
– А, вот оно что! – Возрадовался я, – так тебе, как русисту, надо ещё и «феню» знать, вдруг на экзамене спросят?
– А что это такое, сленг? – удивленно спросила Энико.
– Да, язык, сформировавшийся на Руси в эпоху средневековья и первоначально использовавшийся офенями – бродячими торговцами. Это язык для общения – «не для чужих ушей», который впоследствии был перенят уголовной средой, – ответил я, – вот, например: «По фене ботал, права качал, по тыкве схлопал и замолчал».
Энико громко рассмеялась:
– Ну, ты дурашка, «буквицы сии зело многочисленны, притом тяжек труд нам разбирать их», – на древнеславянском ответила мне Энико, и мы искренне расхохотались над неожиданной концовкой нашего поединка заумности.
Глава третья
Из Секешфехервара в Будапешт
«Суть не в дороге, которую мы выбираем;
нас заставляет выбирать дорогу то, что внутри нас»
О. Генри
То, что было связано с СССР и его вооруженными силами, исполнявшими интернациональный долг по Варшавскому договору, ушло в забвение, и мало кто об этом помнит. А в восьмидесятых годах прошлого столетия военные просто выполняли свою работу, и следует отметить, очень даже неплохо. В зиму 1986 года, в январе, Восточную Европу накрыл циклон, в буквальном смысле этого слова, завалил Венгрию снегом. По ощущениям, высота снежного покрова доходила до 2-х, а то и до 3-х метров. Теплолюбивые и привычные к мягкой европейской зиме, мадьяры оказались технически неспособными бороться с зимней стихией. Хуже всего дело обстояло с автотранспортными коммуникациями. Население городов было отрезано друг от друга сплошными сугробами на автомобильных дорогах. Железнодорожное сообщение прервано между основными городами. Населённые пункты оказались в полной изоляции от возможности снабжать их продуктами питания. На венгерском горизонте замаячила голодная зима.
По решению командования ЮГВ на все виды мадьярских дорог были выведены сотни единиц инженерной техники. Наши солдаты и офицеры пробивали дороги в снежных заносах, освобождая от зимнего плена людские селения. Доходило до того, что беременных венгерских женщин доставляли в роддомы на БМП. А хлеб с полевых хлебозаводов отвозили в близлежащие селения. И всё это делалось безвозмездно, не за награды – интернациональная взаимовыручка. Сами венгры об этом, наверное, уже и не помнят – они забыли всё это буквально через пару лет. И в девяностых годах советских военных провожали в Союз уже, как оккупантов, на стенах домов, и везде, где было возможно, венгры расклеивали плакаты – затылок с фуражкой и надпись: «Elvtаrsak, menj haza!»[16 - «Товарищи, идите домой!» – (венг.)].
Коротка человеческая память. И всё же приятно было вспоминать, что среди наши военных в Венгрии были не только дезертиры, плохие водители и спекулянты. Были и добрые отзывчивые люди, готовые на самопожертвование и благородные поступки. И таких было большинство.
Участок европейского маршрута Е71, который соединяет столицу Венгрии – город Будапешт, и административный центр медье (графство) Фейер – город Секешфехервар, необходимо было преодолевать, по правилам дорожного движения по автобану на скорости не менее 100—160 км/час. Однако наш военный ЗИЛ-131 с кунгом, на котором я решился добраться до Будапешта, мог развивать по трассе скорость до 85 км/час, не более. Командирская «Волга» не смогла вместить в себя всех офицеров старшего сословия и мне, как заместителю начальника ПТО, пришлось договариваться со старшим машины, так называемого «Студебеккера», начальником ЦМС, старшим лейтенантом Разумовским.
Я окинул взглядом территорию центральных материальных складов и понял, что молодежь уже уехала на экскурсию, а народ постарше рассредоточился в своих «каптёрках». Разумовского я отыскал в «прорабке» на территории ЦМС, где он со своим помощником, прапорщиком Аусом – эстонцем по происхождению, с загадочным видом что-то готовил на огромной сковороде.
– Вечер добрый вам в каптёрку, – поприветствовал я искусных поваров в военной форме и, втянув носом изумительный запах жареного мяса, спросил:
– По какому случаю сабантуй? И что за вкуснятина у вас готовится на сковороде?
– А вот, – ответил мне Разумовский, – прапорщик Аус отловил на территории базы великолепного кролика, которого мы буквально скоро будем кушать.
– Да, тут этих кроликов видимо-невидимо, – добавил прапорщик, нарезая армейским штык-ножом головку лука крупными кольцами, – под нашими складами на территории столько нор нарыли, что не сосчитать. Вот, под вечер, к ужину, и достаем по одному, – высказался прапорщик, поигрывая ножом, который в его огромных пудовых кулачищах казался просто детской игрушкой.
На столешнице офисного стола находились пара бутылок польской водки «Балтика» и армейская тарелка с нарезанными дольками венгерского сладкого перца.
– Ты что, на экскурсию не поехал? – Спросил меня Разумовский, – тогда прошу к нашему шалашу.
– Спасибо за приглашение! – Я снял фуражку, подошел к столу и нарезал белый мадьярский круглый хлеб, который проще было разломить руками на ломти, чем резать ножом, настолько он был свежим и бесконечно мягким.
– Мне в Будапешт надо, – продолжил я разговор, – только не знаю, на чём добираться? Не хотелось бы с автовокзала ехать. Может, у нас с базы какая-либо техника идет на Будапешт?
– Не переживай, Сева, – произнес Разумовский, – переворачивая распятого кролика на чугунной сковороде, – поедешь на ЗИЛ-131, отвезёте баллоны с кислородом на объект в южную группу, мне как раз старший машины нужен. Возьми с собой накладные на столе, которые я выписал, а пока прошу к столу, перекусим на скорую руку.
Выпив пресловутую польскую «Балтику» и закончив венгерский сливовый самогоном с невыносимым амбре, нас потянуло на разговоры.
– Игорь, – спросил я Разумовского, – а ты помнишь, как сюда приехал служить, ты же более опытный и раньше меня прибыл в Южную группу? В каком году ты приехал?
– Я приехал, дай Бог памяти, – почесал затылок Разумовский, – да, в аккурат в 1985 году, как раз в это время Горбачев ввёл свой пресловутый Указ о борьбе с пьянством, и в связи с этим наш выпускной банкет был весьма ограничен в питие. В Союзе нас очень тщательно инструктировали в вопросах распития крепких напитков, некоторые «политруки» и «молчу-молчу» – это начальник особого отдела, если ты не знаешь. Грозили страшными наказаниями за ослушание и игнорирование решения партии и правительства. Мы, будущие офицеры, надо сказать, весьма волновались. Никто не хотел рисковать будущей карьерой военного. Поэтому наш сабантуй на выпускном прошел достаточно скромно, по сравнению с предыдущими годами, – предался воспоминаниям старший лейтенант Разумовский, прикурив импортную сигарету.
– Затем небольшой отпуск, предписание, Киевский вокзал, и вот, я уже пассажир поезда «Москва-Будапешт». О, этот знаменитый поезд многие помнят – самый веселый поезд министерства путей сообщения. Я ехал со своими однокашниками по выпуску, ну, вы их не знаете. Буквально через пару часов мы собрали в нашем купе – человек десять. Кто это были? Да, молодые лейтенанты со всех вузов нашего необъятного Союза, военные из совершенно разных родов войск. Ребята умные, нагловатые, крепкие и уверенные в себе – будущие карьеристы. Попивали водочку, кушали родительские НЗ, звучала гитара, песни. Родину мы любили одну на всех, независимо от национальности. Хит-парад возглавляла песня Александра Дольского «Господа офицеры, я прошу вас учесть, кто сберег свои нервы, тот не спас свою честь». В соседних купе никто не возмущался нашим поведением, хотя некоторые гражданские лица тоже пировали с нами, – вспоминая, Игорь, сделал паузу и продолжил, – ранним утром мы прибыли в Будапешт под крышу вокзала Келети. Головушка требовала пивка и хорошего сна. Встречали традиционно – военный патруль и пару офицеров из штаба ЮГВ. Практически строем нас провели к автобусам на глазах огромного количества венгров, которые не обращали на строй никакого внимания – видно к этому давно привыкли. В два автобуса с военными номерами набилось огромное количество военных – больше 50 человек. Старший офицер приказал закрыть шторки на окнах автобуса, и мы тронулись в Южную группу войск – в штаб группы. Несмотря на запрет, мы смотрели через окна, отодвинув шторки, на городские пейзажи совершенно другой страны. Великолепной красоты архитектура, иностранные машины, совершенно иначе одетые люди, чем наши сограждане. Возле какого-то здания старинной архитектуры стояла молодая пара и, на виду у всех, застыла в длящемся поцелуе. Для нас это был шок. Молодые женщины, идущие по тротуарам, были одеты в модные джинсы и футболки, под которыми не наблюдалось нижнего белья. Сейчас с улыбкой вспоминаю это, но тогда, был просто потрясен.
Слушая откровения Игоря, я вспоминал свой первый приезд в Будапешт. Прилетев в Домодедово с огромным чемоданом, добрался до Павелецкого вокзала на электричке. Затем выйдя на привокзальную площадь, а я был экипирован в военную форму по полной программе, сразу же был окружён таксистами разных мастей, предлагавших свои услуги. Сев в первое предложенное такси, я сказал водителю:
– До Киевского вокзала.
– До Киевского? – Переспросил меня таксист, – наверное, за границу едете, товарищ капитан?
Для таксистов, как я понял, все военные в морской форме были капитаны.
– Да, заграницу, – ответил я, глядя через лобовое стекло на многорядный железный поток, заполонивший кольцевую магистраль.
– Тогда, вот вам мой совет, – продолжал таксист, уверено перестраиваясь из ряда в ряд, двигаясь по трассе, не сбавляя скорости.