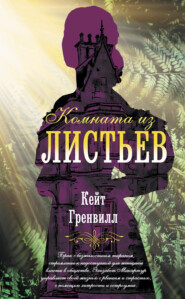По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Тайная река
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но в ту зиму, когда ему исполнилось четырнадцать, река замерзла и простояла подо льдом две недели. Прямо на льду устроили зимнюю ярмарку с ирландскими скрипачами и танцующими медведями, с прилавками с горячими каштанами, и у всех мужчин и женщин от джина развязались языки. Но для тех, у кого не было ни пенни на каштаны и выпивку, ярмарка была самым тяжким временем. Раз река замерзла, значит, не было работы ни на кораблях, ни в сыромятнях.
Торнхиллы голодали в своей комнатенке на Мермейд-Корт. Мэри все подшивала и подшивала саваны, так яростно орудуя иглой, будто от этого зависела вся ее жизнь, но пальцы от холода едва слушались, потому что в окне, под которым она сидела, не было стекол – оно пропускало не только свет, но и ветер. У Лиззи разболелось горло, она лежала, стонала и тяжело дышала. Джон пытался воровать картофелины в лавке Тиррелла, а Люк стоял на стреме, и еще был Роб, бедный дурачок, он по-прежнему все улыбался, хотя радоваться было нечему.
Их спас мистер Миддлтон, этот мрачный, но, несомненно, добрый человек. Умер еще один младенец, еще один сын, который мог бы вырасти, выучиться отцовскому ремеслу и унаследовать его дело. Что-то переменилось в мистере Миддлтоне – у него больше не осталось надежд. «Он стал очень суровым, – сказала Сэл Торнхиллу. – Говорит, больше никаких деток». Она помолчала и добавила: «Никаких сыновей. Только я». Она пыталась говорить беззаботно, легко, как будто все это ничего не значило, но он слышал в ее голосе страдание.
А потом мистер Миддлтон сказал Торнхиллу, что мог бы взять его в учение. «Но запомни: никакого воровства, – предупредил он. – Украдешь хоть что-нибудь – тут же вылетишь башкой вперед». Что до сестер, то он знал человека, которому нужны были швеи для незатейливой работы, так что им удастся продержаться.
• • •
В самый сильный мороз того года, в январский день, когда переливающиеся как жемчуг облака, казалось, сами были сделаны изо льда и от холода даже было тяжело дышать, мистер Миддлтон сопроводил Торнхилла от церкви Святой Марии на Холме к зданию Гильдии водников, где Торнхилла должны были официально закрепить за ним в качестве ученика. Он и другие мальчики ждали в длинном, продуваемом насквозь проходе, выложенном стертыми временем плитами. Они сидели на жесткой и слишком узкой скамье, холод от камней насквозь проморозил ему ноги в деревянных башмаках, но он чувствовал, что в этот день происходит прорыв из его ужасного, голодного и грязного прошлого. Мистер Миддлтон сел рядом, он все еще тяжело дышал после крутого подъема на холм, а Торнхилл вообще почти не дышал: перед ним представало будущее, на которое он и надеяться не смел.
Если он осилит семь лет ученичества, он станет полноправным членом сообщества лодочников Темзы. Людям всегда будет нужно перебираться с берега на берег, уголь и зерно всегда нужно будет доставлять к причалам от стоящих на рейде кораблей. И пока у него будет здоровье, ему больше никогда не придется голодать. Он поклялся себе, что станет лучшим из учеников, самым сильным, самым быстрым, самым сообразительным. А после семи лет, став свободным, он будет самым усердным лодочником на всей Темзе.
А когда у него будет работа, он сможет жениться на Сэл и содержать ее. Как ни крути, а мистеру Миддлтону понадобится сильный зять, чтобы помогать в деле и, что совершенно естественно, унаследовать его. Сегодня для него откроются все прежде наглухо закрытые двери!
Лестница походила на лестницу из сна – закрученная, словно кожура апельсина, вокруг хлипкой рейки, она поднималась к льющемуся с неба свету. Наверху он замер, и мистер Миддлтон почти втянул его за собой в большую комнату с турецким ковром на полу, сверкающими шандельерами, он чувствовал жар камина и смотрел на темные торжественные лица на развешанных по стенам портретах.
Он стоял позади мистера Миддлтона, который выглядел еще строже и суровее, чем прежде, вытянувшись, словно дворцовый гвардеец, лицом к большому столу из красного дерева, за которым восседали с полдюжины мужчин в мантиях. Один из них, тот, у которого на плечах лежала тяжеленная бронзовая цепь, сказал: «Доброе утро, Ричард, как поживает миссис Миддлтон?» И мистер Миддлтон сдавленным голосом ответил: «Терпимо, мистер Пайпер, не на что жаловаться».
Торнхилл никогда не слышал, чтобы кто-то обращался к мистеру Миддлтону по имени, да и не видел его таким скованным от волнения и смирения. И он понял, что эти люди, сидящие за столом из красного дерева, настолько возвышались над мистером Миддлтоном, насколько мистер Миддлтон был выше него. И на него вдруг снизошло понимание того, как люди возвышаются друг над другом – один за другим, от Торнхиллов в самом низу до короля, или Господа Бога, на самом верху, и каждый выше другого или ниже другого, и от этого понимания его даже затошнило.
Человек с цепью спросил: «Кто этот малый, Ричард?» – и мистер Миддлтон тем же сдавленным голосом ответил: «Это Уильям Торнхилл, ваша светлость, и я здесь, чтобы поручиться за него». А другой человек спросил: «Умеет ли он обращаться с веслом?» – и невысокий человек на конце стола добавил: «У него руки-то к реке приспособлены?»
Голос у мистера Миддлтона стал повеселее – теперь он был на своей территории: «Да, мистер Пайпер, он на той неделе греб от причала Хея до Сафферанс-дока и от старой лестницы Уоппинга до пристани Фреша». И человек с цепью воскликнул: «Молодчина!» – как будто разговаривал с каким-нибудь мальцом, но мистер Миддлтон никак не отреагировал на это восклицание, словно для него было совершенно нормально, что с ним вот так обращаются, от чего Торнхилл испугался еще больше.
Языки пламени из камина почти обжигали. Он никогда в жизни не стоял подле такого большого огня, никогда не знал, что может быть так горячо, у него чуть штаны не задымились. Но он не мог сдвинуться вперед, это было бы неуважительно по отношению к джентльменам в мантиях. Он полагал, что это часть испытания, что-то, что он обязан перенести, как и взгляды этих джентльменов, которые, если им того захочется, могут ему отказать.
Мистер Пайпер повторил: «Молодчина», но он был такой старый, весь аж трясся от старости, что было ясно, что он совершенно забыл, кто именно молодчина – он даже похлопал себя по руке, как если бы поздравлял сам себя.
Тогда лысый человек сказал, обращаясь уже к самому Торнхиллу: «Руки все стер, а, сынок?» И Торнхилл не знал, что ему говорить – да или нет, и следует ли вообще что-то говорить. Ладони у него все еще были опухшие от тяжелого испытания, которому его подверг мистер Миддлтон, но уже не кровили. Он молча протянул их людям за столом, и они рассмеялись.
Лысый сказал: «Хороший парень, руки у него уже как у настоящего лодочника, да, джентльмены? Что ж, лицензия вам выдана». Дело сделано.
• • •
Мистер Миддлтон оказался добрым хозяином. Впервые в жизни Торнхилл не испытывал голода и холода непрерывно. Спал он в кухне, на выложенном плитняком полу – раскладывал набитый соломой матрас, подъем и сон диктовал прилив.
Приливы и отливы – вот кто был настоящим тираном. Они не ждали никого, и если лодочник, которому надо доставить уголь вверх по реке, пропускал прилив, никто, даже такой силач, как Уильям Торнхилл, ничего не мог поделать – грести с грузом против течения было невозможно, и приходилось целых двенадцать часов ждать следующего прилива.
Кровавые мозоли на ладонях не заживали никогда. Волдыри росли, прорывались, потом снова росли и прорывались снова. Ручки весел на «Надежде» потемнели от его крови. Мистер Миддлтон одобрительно кивал. «Только так, парень, ты наработаешь руки речника», – говорил он и давал ему топленое сало, чтобы втирать в ладони.
Семь лет – это казалось вечностью, но и научиться надо было многому. Как ведет себя река во время приливов и отливов на участке от Уоппинга до Ротерхита, где течение заворачивает к Хейз-Роуд и где человека, если он упадет за борт, мгновенно утянет на дно – столько там водоворотов. Как течения мотают лодку возле Челси-Рич, потому что, как говорят, здесь когда-то утонули несколько скрипачей, и с тех пор река в этих местах пляшет. Как весло длиной в четыре человеческих роста берет верх над своим хозяином. Как, наклонив поворотом кисти лопасть, выдернуть весло из носовой уключины, промчаться с ним по узкому планширу на корму и, навалившись на рукоять всем весом, вставить его в кормовую стойку.
Порой он забывал, что всему этому ему приходилось учиться.
Но он узнавал и многое другое. Вот, например, про благородных господ. Как они торговались за каждый фартинг в выражениях длинных и цветистых, постоянно называя его «мой добрый друг», а если у пристани было много лодок, а фартингов в кармане мало, то небрежным жестом отметая его услуги и нанимая того, кто подешевле. Как вынужденно соглашаться везти их от Челси к Святой Катарине у Тауэра всего за два пенни, лишь бы не возвращаться домой совсем без заработка. Как дурачатся на пристанях актеры, направлявшиеся в театры в Ламбете, – они заставляли лодочника ждать, ровно удерживая лодку, при этом они на него даже и не смотрели, и всю дорогу проговаривали свои реплики, как будто были одни на белом свете, а лодочник – только часть пейзажа.
Он узнал, что у благородных имеется столько же трюков, чтобы надуть бедного лодочника, сколько их есть у крыс. Как-то он перевез одного через реку, этот господин приказал ему ждать – мол, скоро вернется, надо будет везти его обратно, и тогда уж он заплатит сразу за оба конца. Торнхилл прождал пять часов, не хотелось ему терять обещанный шиллинг, и только потом понял, что этот пройдоха просто нанял на обратный путь другого лодочника.
Так что больше он господам на слово не верил.
Но и лодочнику тоже надо было знать свои хитрости: например, когда пассажиры собираются на пристани Уайтхолл, желая, чтобы их перевезли к Воксхолл-Гарденз, и когда они захотят возвращаться домой. Или знать, когда идет мерлуза, чтобы отвезти джентльменов к «Доброму другу» или «Капитану», где они будут сидеть за столами у самой реки и набивать брюхо, и тут уж лодочнику самому решать, то ли ждать, то ли вернуться к пристани Корниш в надежде, что там удастся подцепить джентльмена, желающего, чтобы его отвезли в загородный дом в Ричмонде.
Как лучший на реке подмастерье, Торнхилл знал, как обращаться с джентльменами. Он приветствовал их громко и весело, и его крик перекрывал заунывные вопли других лодочников. «Сюда! – орал он. – Сэр, приглашаю на борт “Надежды”, лучшего судна на этой реке!» – и размахивал старой шапкой. У него была густая блестящая шевелюра, служившая ему лучше всякой шляпы, и он знал, что, увидев эти энергичные кудри, вряд ли кто усомнится в жизнеспособности всей остальной системы. Он отчаянно жестикулировал, как комики, которых видел в мюзик-холле: «Лучшая лодка во всем христианском мире, сэр! С ней ни одна лодка сравниться не может!» – и указывал на украшавший его рукав значок Доггетта[6 - Знак Доггетта – большой овальный серебряный значок победителей в гонках лондонских лодочников. Впервые такое соревнование, придуманное комедийным актером Томасом Доггеттом, состоялось в 1715 г. Соревнования на приз Доггетта проводятся и по сей день.], говоривший о том, что он выиграл гонку учеников. «Отсюда до Грейвсенда за два часа без четырех минут, а до Биллингсгейта, сэр, доставлю вас так быстро, что вы и табакерку открыть не успеете!»
Благородные господа казались ему созданиями еще более загадочными, чем ласкары[7 - Ласкары – солдаты и матросы из Индии, Юго-Восточной Азии и арабских стран, служившие в европейских армиях и флоте.], и он очень удивился бы, что ими движут те же импульсы, что и другими человеческими существами. Как-то раз он стоял по задницу в воде, удерживая лодку возле рампы, чтобы пассажиры могли пройти, не замочив ног. Он едва глянул на них, когда они его поприветствовали, думая только о том, как бы заработать и вернуться, наконец, в теплую кухню мистера Миддлтона. Ноги у него онемели от холода, да и выше пояса он тоже замерз до смерти, потому что насквозь промок под дождем, а ветер в тот день задувал холодный. Он чувствовал запах собственных мокрых волос. От них пахло псиной – запах мокрой шерсти от его синей куртки и красного фланелевого жилета, который вручил ему мистер Миддлтон: тому больше не было нужды самому надевать этот жилет, потому как у него теперь имелся сильный подмастерье, делавший за него всю работу. На реке было сильное волнение, и лодка била его по ногам, пока он стоял в воде, держась обеими руками за планшир, и тут он услышал, как джентльмен произнес богатым аристократичным голосом: «Осторожней, любовь моя. Не показывай ножки лодочнику!»
Джентльмен был белолиц, хлипок в груди, ротик у него был словно маленький розовый бутон. Из-под шляпы свисали длинные локоны, и он бережно усаживал в лодку свою даму, придерживая ее за руку и за талию. И все равно он успел бросить на Торнхилла, стоявшего в грязной воде, вцепившись промерзшими руками в планшир, взгляд не столько презрительный, сколько триумфальный. «Глянь на меня, приятель, вот что у меня имеется!» – говорил этот взгляд. И обтянутые белым шелком ножки, и все, что к ним приделано, есть собственность джентльмена, в то время как у Уильяма Торнхилла собственности никакой, кроме разве скукожившейся от бесчисленных дождей черной шапки, сидевшей у него на затылке как прыщ на слоновьей заднице.
Судя по виду, джентльмен понятия не имел, что делать с женскими ножками, но обнимал даму, хотя и без всякого удовольствия: дама, ее белые чулочки, шелковые туфельки и все такое прочее, была предметом его гордости, гордости обладателя, но в том, как он произносил «любовь моя», любви-то не было ни капли.
Но нога – нога-то была, как раз на уровне глаз лодочника, она переступила через планшир так близко, что лодочник мог бы, если б захотел, до нее дотронуться, почувствовать пальцами шелк. Туфелька, венчавшая ногу, была чудом, непонятно каким образом оказавшимся на старом грязном причале Хорслидаун. Было совершенно невероятно, что столь внушительная особа могла стоять и передвигаться в таких крошечных башмачках из ярко-зеленого шелка. Задников у туфелек не было, зато были маленькие каблуки, придававшие щиколоткам особое изящество, и когда она ступила на корму, ножка была повернута так, что взгляд Торнхилла не мог не заметить изгиб щиколотки, узкую пятку, элегантность каблука.
Там, где-то над ногами, было лицо, рот на нем поблагодарил мужа – «любовь мою» – за заботу, но само лицо выглядело скучающим, словно его обладательница давно уже не ждала от супруга никаких радостей, кроме этой жеманной галантности.
На Торнхилла она не смотрела, на него смотрела ее ножка, она приоткрыла ее специально для него. Может, показывая ножку простому лодочнику, она надеялась расшевелить своего вялого муженька? Или это делалось для ее собственного удовольствия, как напоминание о том, что на свете существуют и другие мужчины, которые, завидев дамскую ножку, знают, как с ней обращаться?
Но тут джентльмен одернул ей юбку и влез в лодку – каким-то образом ему удалось втащить и супругу, при этом он чуть ли не сел задом Торнхиллу на физиономию. Торнхилл помочь пассажирам не мог, так как обеими руками еле удерживал суденышко, а когда вскарабкался на борт, мокрый и дрожащий от холода так, что его собственные ноги едва слушались, пассажиры уже сидели на корме, и белая юбка прикрывала зеленые башмачки.
Владелица ноги произнесла: «Генри, дорогой, боюсь, моя туфелька совсем испорчена». Она вытянула ногу. И действительно, зеленый шелк промок, и маленькая оборка, украшавшая перед туфельки, печально повисла. Юбка была задрана почти до колен, и к северу от туфельки лежали тени, в которых притаились прелести, о коих мужчина мог вполне догадываться.
«Любовь моя, – на этот раз голос джентльмена звучал резче. – Ты снова выставила ногу!»
Теперь дама определенно смотрела на Торнхилла, и, Господи Боже мой, это был откровенно дразнящий взгляд, но он промелькнул так быстро, что никакой муж не мог бы ни к чему придраться. Взгляды, которыми они обменялись, были взглядами двух живых существ, мужской и женской особей одного вида и одной крови.
Денди обвил руками плечи супруги, хотя, на взгляд Торнхилла, этот жест не обещал ей ничего интересного даже среди пышных кустов Воксхолл-Гарденз, когда они туда, наконец, добрались.
В любой битве за выживание с этим Генри – Торнхилл прекрасно это сознавал – он всегда выйдет победителем, например, случись кораблекрушение, денди скиснет и умрет, в то время как он сам – грубиян и все такое – найдет способ преуспеть. И все же на этом пустынном лондонском острове, в этих полных опасных созданий джунглях в год от Рождества Христова тысяча семьсот девяносто третий, Торнхилл был в полной зависимости от таких жеманных педиков, которые смотрели на него, но не замечали, как не замечают они швартовую тумбу.
Надо сказать, не все господа были такими; у него имелось несколько постоянных клиентов, которые говорили с ним на равных – капитан Уотсон, например, который всегда выбирал именно его на причале в Челси и с которым у него было договорено, что по средам он утром возит капитана к даме сердца в Ламбет. Для капитана он удерживал лодку изо всех сил, потому как капитан был человеком дородным и ему было непросто сходить по трапу, да и когда клиент помещал свой зад на корму – зад настолько увесистый, что трудновато было отталкиваться от берега, – Торнхилл все равно не жаловался, потому что капитан был человеком хорошим и не в обычае у него было торговаться с бедняком из-за нескольких пенсов.
Речнику и головой приходилось все время работать, потому что, едва проснувшись и еще не встав с постели, он уже чувствовал, что там с рекой, с приливами, ветром. Он вычитывал это в цвете неба на рассвете, в криках носившихся над водой птиц, в том, как во время прилива шла волна. И он мог определить, к какому причалу швартоваться, чтобы заработать в этот день как можно больше.
Со временем эта мутная река и корабли, которые она несла на себе, словно собака блох, стала для него как большая комната, в которой он знал каждый угол. Он полюбил бледный свет, разливавшийся по воде, на фоне тусклого неба все неважное, незначительное куда-то исчезало. На Хангерфорд-Рич он сушил весла и сидел, отдавшись течению, он знал, что оно принесет его куда надобно, и смотрел вдаль, на воду, где все было словно нарисовано этим светом.
• • •
Иногда по воскресеньям он, по соглашению с мистером Миддлтоном, не работал, и они с Сэл могли побыть вместе. Ему нравилось находиться рядом с ней, нравилось чувствовать, как где-то там, в глубине, под кожей, пляшут его мысли, которыми он не мог поделиться ни с кем, а ей мог рассказать абсолютно все, признаться в чем угодно, рассказать всякую, даже стыдную, правду. Она выслушала бы и ответила в своей привычно-добродушной манере.
В ту первую зиму ей взбрело в голову научить его буквам, совсем как учила ее мать. Он согласился, только чтобы ее порадовать, но без особой охоты. Ему казалось, что все эти марашки на бумаге иссушают мозг. Он видел, как Сэл записывает что-то для памяти – список того, что надо купить у мануфактурщика или в бакалее, сам-то он мог запросто удержать все в голове. И цифры тоже. Он видел многих джентльменов, которым, чтобы подсчитать, сколько будет стоить до Ричмонда и обратно, приходилось вытаскивать из карманов карандаш и клочок бумаги, особенно если подсчеты были сложные – два человека туда, один обратно, да еще пакет туда, а если по воскресному тарифу… Он же, неграмотный лодочник, еще пока джентльмены рылись в поисках бумажки, уже успевал сложить всю сумму у себя в голове, да еще накинуть десять центов за обслуживание и шестипенсовик в благотворительный фонд.
Они занимались, сидя рядышком за столом, в неровном свете воткнутой в подсвечник свечки. Он чувствовал ее фруктовый женский запах, этот сладкий аромат заставлял вспомнить о лете, о забытой в деревянной коробочке клубнике. Она наклонилась к нему и сказала: «Нет, не надо пока макать в чернила, просто держи – видишь? – как я держу», – и протянула свою маленькую ручку, показывая, как надо держать перо.
Он пытался, и это было неестественно, движения требовались осторожные до бешенства. Бессмысленные какие-то. Совсем не то, что требовалось, чтобы удержать весло – там он его просто обхватывал всей пятерней, и дело с концом. А чтобы удержать перо, требовалась акробатическая ловкость – и пальцами, и кистью, да еще руку по-дурацки вывернуть. Перо крутилось, выскакивало у него из пальцев. Он возился с этим пером, только чтобы ей угодить.
Потом они окунули кончик пера в чернила, и стоило ему поднести перо к бумаге, как оно принялось плеваться, и по скромной белой бумаге побежали наглые черные кляксы. Сэл расхохоталась, и он едва сдержался, чтобы в ярости не перевернуть к дьяволу этот стол и не рвануть к реке. Вот там он был самим собой. Он мог пройти на веслах к Ричмонду и обратно против течения. Он выиграл приз Доггетта, а ветрище в тот день, между прочим, был ужасный, и все равно он всю дорогу шел на корпус впереди Льюиса Блэквуда. Он не позволял мыслям разбегаться, сосредоточившись исключительно на том, что делали руки. Он тогда пришел к финишу, на десять ярдов опередив Блэквуда, и почувствовал, что выдержит любое напряжение и любую нагрузку.
Вот только не может никак усидеть за столом и удержать эту верткую штуковину.
Торнхиллы голодали в своей комнатенке на Мермейд-Корт. Мэри все подшивала и подшивала саваны, так яростно орудуя иглой, будто от этого зависела вся ее жизнь, но пальцы от холода едва слушались, потому что в окне, под которым она сидела, не было стекол – оно пропускало не только свет, но и ветер. У Лиззи разболелось горло, она лежала, стонала и тяжело дышала. Джон пытался воровать картофелины в лавке Тиррелла, а Люк стоял на стреме, и еще был Роб, бедный дурачок, он по-прежнему все улыбался, хотя радоваться было нечему.
Их спас мистер Миддлтон, этот мрачный, но, несомненно, добрый человек. Умер еще один младенец, еще один сын, который мог бы вырасти, выучиться отцовскому ремеслу и унаследовать его дело. Что-то переменилось в мистере Миддлтоне – у него больше не осталось надежд. «Он стал очень суровым, – сказала Сэл Торнхиллу. – Говорит, больше никаких деток». Она помолчала и добавила: «Никаких сыновей. Только я». Она пыталась говорить беззаботно, легко, как будто все это ничего не значило, но он слышал в ее голосе страдание.
А потом мистер Миддлтон сказал Торнхиллу, что мог бы взять его в учение. «Но запомни: никакого воровства, – предупредил он. – Украдешь хоть что-нибудь – тут же вылетишь башкой вперед». Что до сестер, то он знал человека, которому нужны были швеи для незатейливой работы, так что им удастся продержаться.
• • •
В самый сильный мороз того года, в январский день, когда переливающиеся как жемчуг облака, казалось, сами были сделаны изо льда и от холода даже было тяжело дышать, мистер Миддлтон сопроводил Торнхилла от церкви Святой Марии на Холме к зданию Гильдии водников, где Торнхилла должны были официально закрепить за ним в качестве ученика. Он и другие мальчики ждали в длинном, продуваемом насквозь проходе, выложенном стертыми временем плитами. Они сидели на жесткой и слишком узкой скамье, холод от камней насквозь проморозил ему ноги в деревянных башмаках, но он чувствовал, что в этот день происходит прорыв из его ужасного, голодного и грязного прошлого. Мистер Миддлтон сел рядом, он все еще тяжело дышал после крутого подъема на холм, а Торнхилл вообще почти не дышал: перед ним представало будущее, на которое он и надеяться не смел.
Если он осилит семь лет ученичества, он станет полноправным членом сообщества лодочников Темзы. Людям всегда будет нужно перебираться с берега на берег, уголь и зерно всегда нужно будет доставлять к причалам от стоящих на рейде кораблей. И пока у него будет здоровье, ему больше никогда не придется голодать. Он поклялся себе, что станет лучшим из учеников, самым сильным, самым быстрым, самым сообразительным. А после семи лет, став свободным, он будет самым усердным лодочником на всей Темзе.
А когда у него будет работа, он сможет жениться на Сэл и содержать ее. Как ни крути, а мистеру Миддлтону понадобится сильный зять, чтобы помогать в деле и, что совершенно естественно, унаследовать его. Сегодня для него откроются все прежде наглухо закрытые двери!
Лестница походила на лестницу из сна – закрученная, словно кожура апельсина, вокруг хлипкой рейки, она поднималась к льющемуся с неба свету. Наверху он замер, и мистер Миддлтон почти втянул его за собой в большую комнату с турецким ковром на полу, сверкающими шандельерами, он чувствовал жар камина и смотрел на темные торжественные лица на развешанных по стенам портретах.
Он стоял позади мистера Миддлтона, который выглядел еще строже и суровее, чем прежде, вытянувшись, словно дворцовый гвардеец, лицом к большому столу из красного дерева, за которым восседали с полдюжины мужчин в мантиях. Один из них, тот, у которого на плечах лежала тяжеленная бронзовая цепь, сказал: «Доброе утро, Ричард, как поживает миссис Миддлтон?» И мистер Миддлтон сдавленным голосом ответил: «Терпимо, мистер Пайпер, не на что жаловаться».
Торнхилл никогда не слышал, чтобы кто-то обращался к мистеру Миддлтону по имени, да и не видел его таким скованным от волнения и смирения. И он понял, что эти люди, сидящие за столом из красного дерева, настолько возвышались над мистером Миддлтоном, насколько мистер Миддлтон был выше него. И на него вдруг снизошло понимание того, как люди возвышаются друг над другом – один за другим, от Торнхиллов в самом низу до короля, или Господа Бога, на самом верху, и каждый выше другого или ниже другого, и от этого понимания его даже затошнило.
Человек с цепью спросил: «Кто этот малый, Ричард?» – и мистер Миддлтон тем же сдавленным голосом ответил: «Это Уильям Торнхилл, ваша светлость, и я здесь, чтобы поручиться за него». А другой человек спросил: «Умеет ли он обращаться с веслом?» – и невысокий человек на конце стола добавил: «У него руки-то к реке приспособлены?»
Голос у мистера Миддлтона стал повеселее – теперь он был на своей территории: «Да, мистер Пайпер, он на той неделе греб от причала Хея до Сафферанс-дока и от старой лестницы Уоппинга до пристани Фреша». И человек с цепью воскликнул: «Молодчина!» – как будто разговаривал с каким-нибудь мальцом, но мистер Миддлтон никак не отреагировал на это восклицание, словно для него было совершенно нормально, что с ним вот так обращаются, от чего Торнхилл испугался еще больше.
Языки пламени из камина почти обжигали. Он никогда в жизни не стоял подле такого большого огня, никогда не знал, что может быть так горячо, у него чуть штаны не задымились. Но он не мог сдвинуться вперед, это было бы неуважительно по отношению к джентльменам в мантиях. Он полагал, что это часть испытания, что-то, что он обязан перенести, как и взгляды этих джентльменов, которые, если им того захочется, могут ему отказать.
Мистер Пайпер повторил: «Молодчина», но он был такой старый, весь аж трясся от старости, что было ясно, что он совершенно забыл, кто именно молодчина – он даже похлопал себя по руке, как если бы поздравлял сам себя.
Тогда лысый человек сказал, обращаясь уже к самому Торнхиллу: «Руки все стер, а, сынок?» И Торнхилл не знал, что ему говорить – да или нет, и следует ли вообще что-то говорить. Ладони у него все еще были опухшие от тяжелого испытания, которому его подверг мистер Миддлтон, но уже не кровили. Он молча протянул их людям за столом, и они рассмеялись.
Лысый сказал: «Хороший парень, руки у него уже как у настоящего лодочника, да, джентльмены? Что ж, лицензия вам выдана». Дело сделано.
• • •
Мистер Миддлтон оказался добрым хозяином. Впервые в жизни Торнхилл не испытывал голода и холода непрерывно. Спал он в кухне, на выложенном плитняком полу – раскладывал набитый соломой матрас, подъем и сон диктовал прилив.
Приливы и отливы – вот кто был настоящим тираном. Они не ждали никого, и если лодочник, которому надо доставить уголь вверх по реке, пропускал прилив, никто, даже такой силач, как Уильям Торнхилл, ничего не мог поделать – грести с грузом против течения было невозможно, и приходилось целых двенадцать часов ждать следующего прилива.
Кровавые мозоли на ладонях не заживали никогда. Волдыри росли, прорывались, потом снова росли и прорывались снова. Ручки весел на «Надежде» потемнели от его крови. Мистер Миддлтон одобрительно кивал. «Только так, парень, ты наработаешь руки речника», – говорил он и давал ему топленое сало, чтобы втирать в ладони.
Семь лет – это казалось вечностью, но и научиться надо было многому. Как ведет себя река во время приливов и отливов на участке от Уоппинга до Ротерхита, где течение заворачивает к Хейз-Роуд и где человека, если он упадет за борт, мгновенно утянет на дно – столько там водоворотов. Как течения мотают лодку возле Челси-Рич, потому что, как говорят, здесь когда-то утонули несколько скрипачей, и с тех пор река в этих местах пляшет. Как весло длиной в четыре человеческих роста берет верх над своим хозяином. Как, наклонив поворотом кисти лопасть, выдернуть весло из носовой уключины, промчаться с ним по узкому планширу на корму и, навалившись на рукоять всем весом, вставить его в кормовую стойку.
Порой он забывал, что всему этому ему приходилось учиться.
Но он узнавал и многое другое. Вот, например, про благородных господ. Как они торговались за каждый фартинг в выражениях длинных и цветистых, постоянно называя его «мой добрый друг», а если у пристани было много лодок, а фартингов в кармане мало, то небрежным жестом отметая его услуги и нанимая того, кто подешевле. Как вынужденно соглашаться везти их от Челси к Святой Катарине у Тауэра всего за два пенни, лишь бы не возвращаться домой совсем без заработка. Как дурачатся на пристанях актеры, направлявшиеся в театры в Ламбете, – они заставляли лодочника ждать, ровно удерживая лодку, при этом они на него даже и не смотрели, и всю дорогу проговаривали свои реплики, как будто были одни на белом свете, а лодочник – только часть пейзажа.
Он узнал, что у благородных имеется столько же трюков, чтобы надуть бедного лодочника, сколько их есть у крыс. Как-то он перевез одного через реку, этот господин приказал ему ждать – мол, скоро вернется, надо будет везти его обратно, и тогда уж он заплатит сразу за оба конца. Торнхилл прождал пять часов, не хотелось ему терять обещанный шиллинг, и только потом понял, что этот пройдоха просто нанял на обратный путь другого лодочника.
Так что больше он господам на слово не верил.
Но и лодочнику тоже надо было знать свои хитрости: например, когда пассажиры собираются на пристани Уайтхолл, желая, чтобы их перевезли к Воксхолл-Гарденз, и когда они захотят возвращаться домой. Или знать, когда идет мерлуза, чтобы отвезти джентльменов к «Доброму другу» или «Капитану», где они будут сидеть за столами у самой реки и набивать брюхо, и тут уж лодочнику самому решать, то ли ждать, то ли вернуться к пристани Корниш в надежде, что там удастся подцепить джентльмена, желающего, чтобы его отвезли в загородный дом в Ричмонде.
Как лучший на реке подмастерье, Торнхилл знал, как обращаться с джентльменами. Он приветствовал их громко и весело, и его крик перекрывал заунывные вопли других лодочников. «Сюда! – орал он. – Сэр, приглашаю на борт “Надежды”, лучшего судна на этой реке!» – и размахивал старой шапкой. У него была густая блестящая шевелюра, служившая ему лучше всякой шляпы, и он знал, что, увидев эти энергичные кудри, вряд ли кто усомнится в жизнеспособности всей остальной системы. Он отчаянно жестикулировал, как комики, которых видел в мюзик-холле: «Лучшая лодка во всем христианском мире, сэр! С ней ни одна лодка сравниться не может!» – и указывал на украшавший его рукав значок Доггетта[6 - Знак Доггетта – большой овальный серебряный значок победителей в гонках лондонских лодочников. Впервые такое соревнование, придуманное комедийным актером Томасом Доггеттом, состоялось в 1715 г. Соревнования на приз Доггетта проводятся и по сей день.], говоривший о том, что он выиграл гонку учеников. «Отсюда до Грейвсенда за два часа без четырех минут, а до Биллингсгейта, сэр, доставлю вас так быстро, что вы и табакерку открыть не успеете!»
Благородные господа казались ему созданиями еще более загадочными, чем ласкары[7 - Ласкары – солдаты и матросы из Индии, Юго-Восточной Азии и арабских стран, служившие в европейских армиях и флоте.], и он очень удивился бы, что ими движут те же импульсы, что и другими человеческими существами. Как-то раз он стоял по задницу в воде, удерживая лодку возле рампы, чтобы пассажиры могли пройти, не замочив ног. Он едва глянул на них, когда они его поприветствовали, думая только о том, как бы заработать и вернуться, наконец, в теплую кухню мистера Миддлтона. Ноги у него онемели от холода, да и выше пояса он тоже замерз до смерти, потому что насквозь промок под дождем, а ветер в тот день задувал холодный. Он чувствовал запах собственных мокрых волос. От них пахло псиной – запах мокрой шерсти от его синей куртки и красного фланелевого жилета, который вручил ему мистер Миддлтон: тому больше не было нужды самому надевать этот жилет, потому как у него теперь имелся сильный подмастерье, делавший за него всю работу. На реке было сильное волнение, и лодка била его по ногам, пока он стоял в воде, держась обеими руками за планшир, и тут он услышал, как джентльмен произнес богатым аристократичным голосом: «Осторожней, любовь моя. Не показывай ножки лодочнику!»
Джентльмен был белолиц, хлипок в груди, ротик у него был словно маленький розовый бутон. Из-под шляпы свисали длинные локоны, и он бережно усаживал в лодку свою даму, придерживая ее за руку и за талию. И все равно он успел бросить на Торнхилла, стоявшего в грязной воде, вцепившись промерзшими руками в планшир, взгляд не столько презрительный, сколько триумфальный. «Глянь на меня, приятель, вот что у меня имеется!» – говорил этот взгляд. И обтянутые белым шелком ножки, и все, что к ним приделано, есть собственность джентльмена, в то время как у Уильяма Торнхилла собственности никакой, кроме разве скукожившейся от бесчисленных дождей черной шапки, сидевшей у него на затылке как прыщ на слоновьей заднице.
Судя по виду, джентльмен понятия не имел, что делать с женскими ножками, но обнимал даму, хотя и без всякого удовольствия: дама, ее белые чулочки, шелковые туфельки и все такое прочее, была предметом его гордости, гордости обладателя, но в том, как он произносил «любовь моя», любви-то не было ни капли.
Но нога – нога-то была, как раз на уровне глаз лодочника, она переступила через планшир так близко, что лодочник мог бы, если б захотел, до нее дотронуться, почувствовать пальцами шелк. Туфелька, венчавшая ногу, была чудом, непонятно каким образом оказавшимся на старом грязном причале Хорслидаун. Было совершенно невероятно, что столь внушительная особа могла стоять и передвигаться в таких крошечных башмачках из ярко-зеленого шелка. Задников у туфелек не было, зато были маленькие каблуки, придававшие щиколоткам особое изящество, и когда она ступила на корму, ножка была повернута так, что взгляд Торнхилла не мог не заметить изгиб щиколотки, узкую пятку, элегантность каблука.
Там, где-то над ногами, было лицо, рот на нем поблагодарил мужа – «любовь мою» – за заботу, но само лицо выглядело скучающим, словно его обладательница давно уже не ждала от супруга никаких радостей, кроме этой жеманной галантности.
На Торнхилла она не смотрела, на него смотрела ее ножка, она приоткрыла ее специально для него. Может, показывая ножку простому лодочнику, она надеялась расшевелить своего вялого муженька? Или это делалось для ее собственного удовольствия, как напоминание о том, что на свете существуют и другие мужчины, которые, завидев дамскую ножку, знают, как с ней обращаться?
Но тут джентльмен одернул ей юбку и влез в лодку – каким-то образом ему удалось втащить и супругу, при этом он чуть ли не сел задом Торнхиллу на физиономию. Торнхилл помочь пассажирам не мог, так как обеими руками еле удерживал суденышко, а когда вскарабкался на борт, мокрый и дрожащий от холода так, что его собственные ноги едва слушались, пассажиры уже сидели на корме, и белая юбка прикрывала зеленые башмачки.
Владелица ноги произнесла: «Генри, дорогой, боюсь, моя туфелька совсем испорчена». Она вытянула ногу. И действительно, зеленый шелк промок, и маленькая оборка, украшавшая перед туфельки, печально повисла. Юбка была задрана почти до колен, и к северу от туфельки лежали тени, в которых притаились прелести, о коих мужчина мог вполне догадываться.
«Любовь моя, – на этот раз голос джентльмена звучал резче. – Ты снова выставила ногу!»
Теперь дама определенно смотрела на Торнхилла, и, Господи Боже мой, это был откровенно дразнящий взгляд, но он промелькнул так быстро, что никакой муж не мог бы ни к чему придраться. Взгляды, которыми они обменялись, были взглядами двух живых существ, мужской и женской особей одного вида и одной крови.
Денди обвил руками плечи супруги, хотя, на взгляд Торнхилла, этот жест не обещал ей ничего интересного даже среди пышных кустов Воксхолл-Гарденз, когда они туда, наконец, добрались.
В любой битве за выживание с этим Генри – Торнхилл прекрасно это сознавал – он всегда выйдет победителем, например, случись кораблекрушение, денди скиснет и умрет, в то время как он сам – грубиян и все такое – найдет способ преуспеть. И все же на этом пустынном лондонском острове, в этих полных опасных созданий джунглях в год от Рождества Христова тысяча семьсот девяносто третий, Торнхилл был в полной зависимости от таких жеманных педиков, которые смотрели на него, но не замечали, как не замечают они швартовую тумбу.
Надо сказать, не все господа были такими; у него имелось несколько постоянных клиентов, которые говорили с ним на равных – капитан Уотсон, например, который всегда выбирал именно его на причале в Челси и с которым у него было договорено, что по средам он утром возит капитана к даме сердца в Ламбет. Для капитана он удерживал лодку изо всех сил, потому как капитан был человеком дородным и ему было непросто сходить по трапу, да и когда клиент помещал свой зад на корму – зад настолько увесистый, что трудновато было отталкиваться от берега, – Торнхилл все равно не жаловался, потому что капитан был человеком хорошим и не в обычае у него было торговаться с бедняком из-за нескольких пенсов.
Речнику и головой приходилось все время работать, потому что, едва проснувшись и еще не встав с постели, он уже чувствовал, что там с рекой, с приливами, ветром. Он вычитывал это в цвете неба на рассвете, в криках носившихся над водой птиц, в том, как во время прилива шла волна. И он мог определить, к какому причалу швартоваться, чтобы заработать в этот день как можно больше.
Со временем эта мутная река и корабли, которые она несла на себе, словно собака блох, стала для него как большая комната, в которой он знал каждый угол. Он полюбил бледный свет, разливавшийся по воде, на фоне тусклого неба все неважное, незначительное куда-то исчезало. На Хангерфорд-Рич он сушил весла и сидел, отдавшись течению, он знал, что оно принесет его куда надобно, и смотрел вдаль, на воду, где все было словно нарисовано этим светом.
• • •
Иногда по воскресеньям он, по соглашению с мистером Миддлтоном, не работал, и они с Сэл могли побыть вместе. Ему нравилось находиться рядом с ней, нравилось чувствовать, как где-то там, в глубине, под кожей, пляшут его мысли, которыми он не мог поделиться ни с кем, а ей мог рассказать абсолютно все, признаться в чем угодно, рассказать всякую, даже стыдную, правду. Она выслушала бы и ответила в своей привычно-добродушной манере.
В ту первую зиму ей взбрело в голову научить его буквам, совсем как учила ее мать. Он согласился, только чтобы ее порадовать, но без особой охоты. Ему казалось, что все эти марашки на бумаге иссушают мозг. Он видел, как Сэл записывает что-то для памяти – список того, что надо купить у мануфактурщика или в бакалее, сам-то он мог запросто удержать все в голове. И цифры тоже. Он видел многих джентльменов, которым, чтобы подсчитать, сколько будет стоить до Ричмонда и обратно, приходилось вытаскивать из карманов карандаш и клочок бумаги, особенно если подсчеты были сложные – два человека туда, один обратно, да еще пакет туда, а если по воскресному тарифу… Он же, неграмотный лодочник, еще пока джентльмены рылись в поисках бумажки, уже успевал сложить всю сумму у себя в голове, да еще накинуть десять центов за обслуживание и шестипенсовик в благотворительный фонд.
Они занимались, сидя рядышком за столом, в неровном свете воткнутой в подсвечник свечки. Он чувствовал ее фруктовый женский запах, этот сладкий аромат заставлял вспомнить о лете, о забытой в деревянной коробочке клубнике. Она наклонилась к нему и сказала: «Нет, не надо пока макать в чернила, просто держи – видишь? – как я держу», – и протянула свою маленькую ручку, показывая, как надо держать перо.
Он пытался, и это было неестественно, движения требовались осторожные до бешенства. Бессмысленные какие-то. Совсем не то, что требовалось, чтобы удержать весло – там он его просто обхватывал всей пятерней, и дело с концом. А чтобы удержать перо, требовалась акробатическая ловкость – и пальцами, и кистью, да еще руку по-дурацки вывернуть. Перо крутилось, выскакивало у него из пальцев. Он возился с этим пером, только чтобы ей угодить.
Потом они окунули кончик пера в чернила, и стоило ему поднести перо к бумаге, как оно принялось плеваться, и по скромной белой бумаге побежали наглые черные кляксы. Сэл расхохоталась, и он едва сдержался, чтобы в ярости не перевернуть к дьяволу этот стол и не рвануть к реке. Вот там он был самим собой. Он мог пройти на веслах к Ричмонду и обратно против течения. Он выиграл приз Доггетта, а ветрище в тот день, между прочим, был ужасный, и все равно он всю дорогу шел на корпус впереди Льюиса Блэквуда. Он не позволял мыслям разбегаться, сосредоточившись исключительно на том, что делали руки. Он тогда пришел к финишу, на десять ярдов опередив Блэквуда, и почувствовал, что выдержит любое напряжение и любую нагрузку.
Вот только не может никак усидеть за столом и удержать эту верткую штуковину.