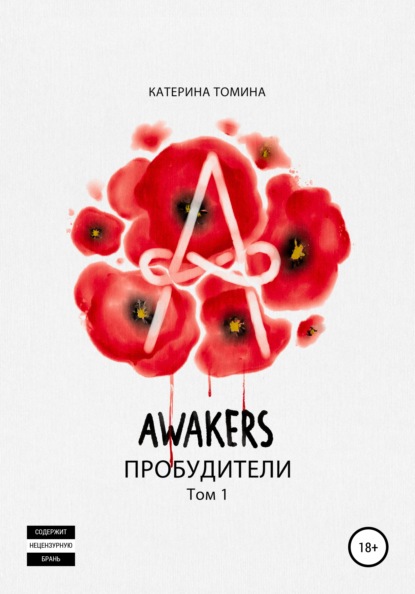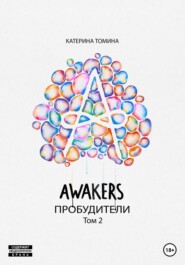По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Awakers. Пробудители. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конечно, она не знает.
Глупо полагать, что все мечтают быть солистами.
Микрофон больше подходит папе. Он у меня Большая Шишка, любит вешать лапшу на уши. Большие Шишки всегда так делают. Не отличают работу от семьи.
Дальше мы говорим про учебу, про школу. Я сознаюсь, что не желаю домашнего обучения. Школа – последнее убежище, которое осталось. Пусть и с тюремной формой в виде отличительного галстука и пиджака с гербом учебного заведения.
Далее следует монолог о том, как мне нравится учиться.
– Строишь планы на будущее?
Она не спрашивает, какие именно; всего-то нужно «да» или «нет».
– Конечно. – Враки. Строить планы – слишком самонадеянно.
Я собирался уйти из группы. Мы и не делали особо ни хрена, почти не репетировали, только красовались и лакали пиво. Конечно, я никогда не собирался играть профессионально, но тратить время впустую скучно. Так что я хотел уйти… И что из этого вышло? Я смотрю в окно, из которого не видно разрушений масштаба качественного летнего блокбастера, она прослеживает направление моего взгляда.
– Понимаю, что в наше время сложно размышлять о будущем.
Она говорит о том, что в истории было немало тяжелых периодов, когда казалось, что никогда ничто не станет прежним, а исход наступает человечеству на пятки.
Я киваю. У меня выпускной класс впереди. Я решительно настроен получать лучшие отметки и быть прилежным учеником. Я никому не говорил, но в последнее время в наушниках особенно настойчиво звучит Time is Running Out.
Продолжение пролога о том, что никто не должен страдать в одиночестве
I'll describe the way I feel:
Weeping wounds that never heal.
Can the savior be for real,
Or are you just my seventh seal?
«Special K», Placebo
Это Пенелопа. Ее голова слегка повернута в сторону, будто она не может оторвать глаз от чего-то ценного. И потом смотрит на нас, сквозь нас с таким растерянным видом. Не дай бог кому-то так влипнуть. Представляю: сваливают на твою голову двух незнакомых человек. И вроде как ты за них несешь ответственность. А что с ними поделаешь? Они же дети. Ну и чем больше дети, тем больше ответственность. А мне уже семнадцать.
Дело в том, что нас с братишкой спихнули в какую-то дыру посреди Ирландии. Это папа так решил. Постановил, что в другой стране нам с братом будет безопаснее. Это после того, как я попал в перестрелку. Правда, оттуда я вышел без единой царапинки: прятался за брошенной машиной. Я не очень хорошо это помню – наверное, из-за шока. Но перепугался как следует. Один из папиных ребят вытащил меня оттуда. На мне ни царапины, а ему плечо продырявили. Я потом два дня есть не мог. Конечно, он выжил, даже на больничный не пошел, но это все формальности. Из-за меня мог погибнуть человек. А мне хоть бы что.
Поэтому теперь мы застряли в этой дыре посреди Ирландии.
И потом еще Пенелопа…
У нее такой вид, будто в этом жилище есть потайная комната, за которую ей заранее стыдно.
И Пенелопа вся такая…
У нее свежее лицо. В смысле не какое-нибудь пластиковое, как у милашек из телека – с дутыми губками, ресничками, как паучьи лапки, – а добропорядочное молодое женское лицо. Она не может быть намного старше меня, то есть значительно младше дяди Пита, и я удивляюсь: что их вообще связывает? Я не заметил колец.
Дядя Пит вообще заслуживает отдельной главы. Может, не очень большой, но я бы оставил на ней закладку. Не знаю точно, сколько ему лет, вроде не больше тридцати пяти. Он что-то вроде скелета в семейном шкафу. Когда я был маленьким, про дядю у нас дома говорили в основном шепотом, а приветствовали, не протягивая руку, а закатывая глаза. Хотя появлялся он нечасто, потому что большую часть времени был занят тем, что катался по свету, спасая то вымирающих слонов, то обездоленных китов, то прочую несчастную живность. Короче, из тех гринписовцев, которые не приматывают себя к деревьям скотчем, а занимаются реальным делом.
Мне не много о нем известно, но я знаю, что в силу своего увлечения дядя может общаться на нескольких языках, большая часть из которых бесполезна. А еще он совсем не похож на папу. Хотя тоже темноволосый, но почти смуглый, будто командировки в жаркие страны наложили отпечаток. Невысокий, жилистый, но что-то есть такое в его облике, отчего сразу видно, что дядя Пит – настоящий мужик. Ну и немножко джентльмен. По крайней мере, он всегда вытирает ноги, когда проходит в дом.
Он подходит ко мне, кладет руку на плечо, заставляя опуститься на стул. Потом наклоняется, хватает меня за подбородок и начинает разглядывать разбитый нос.
– Давно это у тебя?
– Что, нос? Да сколько себя помню…
Пенелопа смотрит, дядя хмурится: типа нашелся остряк. А потом выдает признание:
– Мне тоже нос ломали, когда я был примерно твоего возраста.
– Ну, – отвечаю я, – видимо, это семейное.
Думаю: сейчас опять будет хмуриться, а он усмехается, легонько (так ему кажется) шлепает меня по щеке, так что я долго моргаю от неожиданности, и добавляет:
– Не увлекайся.
* * *
В один прекрасный день дядя приводит меня в гараж, а там уже стоит она – барабанная установка. Он извиняется, говорит, что не знал, подойдет ли такая, потому что он ничего в них не смыслит, но хотел сделать сюрприз, и – вуаля. Пока он стоял, извинялся, я был готов кинуться ему на шею. Понимаете, у меня никогда не было своих барабанов. Тогда мы с самого начала репетировали у Кори: вроде как вместе учились, так что инструменты были у него. У нас дома просто некуда было их деть. Гараж использовался под мамину мастерскую, а репетировать в доме мне бы никто не позволил. Да и не хотелось бы, чтобы домашние слышали, как я тупо стучу в барабаны. Это слишком личное.
Это был странный и счастливый период в моей жизни. Я как следует высыпался, хоть и вставал рано. Стучал в барабаны до одури, а когда уставал, шел сидеть под своим любимым деревом на опушке. Оно прямо как с картинки вылезло. Знаете, были такие раньше в моде: чистое поле и дерево посередине. Вот у меня было такое дерево! Никто больше на него не претендовал, так что я мог приходить когда угодно: книжки читать, сочинять песни, курить, просто думать. Пенелопа уже знала о моей привычке, иногда давала мне с собой термос горячего чая с корицей и какой-нибудь сэндвич или кусок пирога. Пенелопа вообще потрясающе готовит, у нее даже сэндвичи особенные. Брат оставался равнодушным к ее стряпне, в отличие от нас с дядей Питом. Честно, я никогда не отличался хорошим аппетитом – наверное, от мамы унаследовал привычку. Хотя, может, это у нас вообще семейная черта, поэтому все такие тощие. Так что сначала я не обходил вниманием ее кулинарные шедевры из чистой вежливости, а потом уже потому, что это было действительно вкусно. Я обожал наши семейные ужины, начиная с дурманящего аромата приправ (уж на приправы Пенелопа не скупилась), заканчивая приятным ощущением сытого умиротворения, когда тарелки были опустошены и мы в шутку спорили, кто в этот раз заслужил право мыть посуду. Я и сам нередко крутился вместе с Пенелопой на кухне, помогая что-нибудь почистить и нарезать. Ничему не научился, конечно, зато удавалось стянуть какой-нибудь «спойлер» к предстоящему ужину.
Мы тогда мало общались с братом, зато здорово подружились с ней, с Пенелопой. Она совсем не обращалась со мной как с маленьким. Да и дядя Пит тоже. Мне было так хорошо, и я был такой хороший. Правда, очень жаль, что Монти не оценил этого всего. Он все строил из себя неприступную скалу, а я позволил найти к себе подход – легко позволил. Наверное, одним для счастья нужно больше, чем другим. Или что-то совсем другое.
* * *
Накануне мы гуляли с дядей, просто бродили туда-сюда. С ним хорошо гулять, он не ворчит, когда я курю. Он говорит, что сам бросил: гордится этим, сразу видно. Я тоже буду гордиться, когда брошу, – обязательно брошу через годик, когда покончу со школой, я уже решил. Так вот, гуляем мы с ним по этой тропинке, и он спрашивает:
– Так что тогда стало с твоим носом?
– Подрался с одним парнем.
– Это я понял, – ненавязчиво продолжает он. – Что не поделили?
– Ничего. Я накинулся на него с кулаками, – говорю я дяде Питу, который спасает слонов, китов и лечит черепашек от воспаления легких. – Он меня раздражал.
– Да?
– Ходил с такой дурацкой улыбкой…
Это жалкое оправдание. Теперь я и сам не могу объяснить. Тогда, казалось, мир рушился на глазах: все эти взрывы, и траур, и минуты молчания. Это все было слишком личным – и в то же время общим. Все вокруг было как сплошные похороны. А этот хрен ходил с бравой улыбкой. Клоун, твою мать. Вот я ему и врезал.
– Он хоть не меньше тебя был, этот парень? – интересуется дядя.
Я ощупываю свой несчастный нос. Больно, кстати, до сих пор.